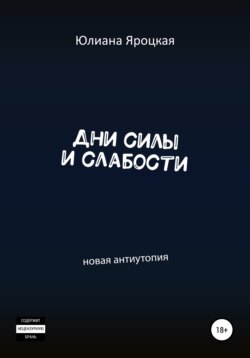Читать книгу Дни силы и слабости - Юлиана Яроцкая - Страница 9
Часть 1
1.0. Я выхожу из тюрьмы
ОглавлениеУтро воскресенья.
Скука – прекрасное средство для памяти. Я все помню. Воспоминания дарят надежды. Однако моя память очень часто ко мне немилосердна.
Чужие головы пахнут пирожками. Это звучит диковато, но проверьте сами. Кожа головы, если она склонна к жирности, пахнет пирожками.
Я не чувствую себя виноватой. Хотя сам факт нахождения в тюрьме автоматически вызывает чувство вины. А ведь это и не тюрьма на самом деле. Когда вы впервые в жизни оказываетесь в полицейском участке – вы еще не понимаете, откуда эта вина. Ничего плохого не произошло. Я сейчас думаю точно так же. Суть в том, что мы – я и уголовный кодекс города Ж – вкладываем разные смыслы в понятие «плохо».
В нашей стране преподаватели философии часто оказываются за решеткой.
Скрип облезшей зеленой двери, раньше тоже даривший надежду, на этот раз себя оправдал.
– Сенк!!! – вопль. – Миленький, родной, как я по тебе соскучилась! Наконец‑то хоть кто‑то меня выковыряет из этой богадельни.
Сентиментальная сцена. От радости я забываю обо всех правилах этикета. Забываю о том, что психически уравновешенные люди так себя не ведут. Хотя, когда нас это останавливало? Психически уравновешенных людей в природе не существует.
Представьте, что после долгого и крайне глупого сидения в полицейском участке за вами пришел лучший друг.
– Знаешь, во сколько мне обошлось это выковыривание? – Сенк деловито отдает начальнику полиции, с которым они появились в коридоре, какую‑то деньгу. Толстый конверт. Начальник рявкает на сторожа. Сторож поднимается со стула и делает шаг к моей клетке. Открывает. Два шага. Я свободна.
– В следующий раз, прежде чем сделать глупость, подумай, во сколько обойдутся ее последствия.
– Я только об этом и думала!
– …тем более, учитывая, что плачу все равно я.
Сенк очень искусно делает нравоучительный вид, хотя на самом деле он тоже рад меня видеть. Я же знаю, что рад: иначе бы он сюда не пришел. От дружбы со мной ему и без того одни убытки. Вы ведь представляете, сколько зарабатывают преподаватели философии по сравнению с программистами?
– Сколько ты им дал?
– Много.
Упрек засчитан, но моего патологически радостного настроения сейчас не испортить ничем. Это в аудитории я напускаю на себя серьезный вид, самой себе напоминая, что я – преподаватель, а не студент.
– Если ты все‑таки дуешься, то обещаю, что все отдам, как только заработаю.
– В натуре?
– В валюте.
– Это была шутка.
Сенк не дуется, но продолжает хладнокровничать, отгораживаясь от моего ребячества фирменным покерфейсом.
Стены перестали давить. В холле полицейского участка к нам подходит дежурный и протягивает мне сумку, бережно отобранную при задержании. Офицерская сумка‑планшет через плечо. Я приятно удивилась, что они не оставили ее себе. Она, должно быть, вполне в их стиле.
Мы покидаем полицейский участок.
Фраза «все отдам» уже неприлично часто звучит из моих уст, но я искренне верю в легитимность своих слов. Найти работу в городе Ж не так уж и сложно, однако это требует времени. Даже пытаясь устроиться дворником, вы сначала должны пройти трехуровневый кастинг, увенчивающийся собеседованием, и испытательный срок, за который вам никто платить не будет. И продолжительность этого испытательного срока выбирает работодатель. Найти действительно хорошую работу, с добрым шефом, уютным офисом и секретаршей, которая не сдирает стикеры с вашего монитора, – сложно. (На стикеры я обычно записываю все пароли. Секретарша может ворчать, что кибербезопасность, она как бог – в деталях, и негоже хранить сверхсекретную информацию на стикерах, еще и лепить их на монитор. Но я вас умоляю. Какая безопасность в наши времена? Какая сверхсекретность? Тем паче у гуманитариев. По‑вашему, лучше, как мои коллеги, эротические картинки на монитор лепить?)
Воистину, это самое замечательное начало утра, которое только могло быть. Просидев в участке полтора дня, я успела так соскучиться по солнечному свету и свежему воздуху, что давнишнее фиаско меня не угнетает. Жизнь слишком хороша, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Да и безработица у меня только де‑факто. Де‑юре я работаю на кафедре философии в университете Гете. Там уже наверняка все знают. Им‑то правоохранительные органы уже сообщили, что их антрополог был задержан при попытке незаконной торговли и провел выходные в участке. Декан оштрафует. Ведь пост преподавателя подразумевает борьбу за высокие идеи и презрение капиталистических нравов общества.
Честно говоря, мне совсем не чужды капиталистические нравы общества. Более того – я их полностью разделяю. А потому мне повезло вырваться в счастливые 5% населения, гордо именуемые фрилансерами. На то и живем.
Когда впервые оказываешься за решеткой – пусть и по глупости, пусть и совсем ненадолго – начинаешь понимать смысл слова «воля». А ведь это всего‑то было полтора несчастных дня. Что же чувствуют те, кто сидит в клетке годами?
Дома и деревья в одном из самых неблагополучных районов ловят бабье лето. Я тоже его ловлю. Если в сентябре по дороге в школу остановиться, подставить лицо солнцу и зажмуриться – можно немного повдыхать его. Это немного грустное, умирающее лето, которое уже почти не греет, которое уже вообще – сентябрь, но все‑таки хочется, хочется надышаться перед зимой. А еще рядом со мной идет лучший друг, в компании которого я всегда будто немного навеселе. Откуда только берутся такие, как Сенк. Он может молча сидеть и вообще ничего не делать, но, попадая в зону его действия, вы мгновенно подключаетесь к какому‑то источнику позитива и легкости. Как к вайфаю. Достаточно просто подойти и сесть рядом. Как сейчас. Вот чё я лыблюсь? Аура сработала?
Я вздыхаю.
– Что так тяжко?
– Свобо‑о‑да‑а…
– Равенство и братство.
– Ты себе не представляешь, как мне надоел этот участок! Эти полицейские, с их громкими ботинками, бутербродами, с их скандальными начальниками… а камера? Сенк, ты бы знал! Там так воняет…
Мой друг идет молча. Я не спрашиваю, куда мы идем – как освободитель, он имеет право командовать парадом. Скорее всего, мы идем к ним с сестрой. Сейчас наверняка заварит свой липовый чай и рухнет спать. Явно, давно не спал – синяки под глазами, побледнел. Постарел. С виду мой друг сейчас мало чем отличается от тех угрюмых ребят из участка, но у него хотя бы есть животворящая аура. А у тех – только бутерброды.
– Как Матильда?
– Как обычно. Слонов рисует. Грабит нашего бомжа. Все никак не придумаю, как с этим бороться. А может, ну его на фиг, кому нужны эти бомжи.
Он немного молчит, то ли от усталости, то ли придумывая, что спросить в ответ. Во вторник в городе Ж будет День Коалиции. Государственный праздник. Еще один выходной.
– А как тюряга?
– Ужасно. Там не проветривают. Не кормят. Я и раньше была не лучшего мнения о тюрьмах.
– А я тебе что говорил.
– Ты мне много чего говорил.
Мы выходим из череды безлюдных двориков на улицу. Длинная, пустая и солнечная. Обычно мне такое только снится. В городе Ж воскресенье. Все спят до обеда. Трамваи не ходят. Машины попрятались. Бодрствуют только беспризорные и алкоголики (что, в принципе, одно и то же). Похмеляются.
В городе Ж, несмотря на его немалые размеры, нет такой развитой инфраструктуры, какую обычно можно наблюдать в столицах. По воскресеньям здесь все чуть‑чуть, как под кайфом. Медленные люди. Медленные магазины. Собаки медленно писают. Минуты тянутся дольше. От этого кажется, что попал в секту долгожителей. (Это еще один плюс.) Солнце мягко затекает в глаза и наполняет мозг своим галактическим медом. Я жмурюсь. Не представляю, как можно спать в такое время. Какой идиот будет валяться в постели, когда тут такой праздник.
Я вспоминаю вчерашний день. Субботний. Незарегистрированная торговля в городе Ж запрещена. Может, именно поэтому она процветает здесь по сей день, обеспечивая хлебом и меня, и Сенка, и его сестру Матильду, и ее собаку Фэри. Невзирая на более‑менее легальный заработок в своей конторе, Сенк сам иногда пользовался возможностями черного рынка, но делал это профессионально – редко, тихо и совершенно безнаказанно. Мы оба чтим порядок и закон, но пренебрегать при случае взаимовыгодной сделкой – просто глупость. В конце концов, черных продавцов, как полицейских – бывших не бывает.
– Продала?
Я еще раз вздыхаю, на этот раз – с легким налетом печали:
– Не‑а.
– Почему?
Старый квакегер (в просторечии – квак) навеки остался в полицейском участке. Хорошо, что не мой. За свой бы я уже взорвала там все.
– Не успела. Конфисковали, гады.
– Жаль, мне сегодня утром за него уже пятихатку предлагали.
Пятьсот франков по нынешним временам – это приличные деньги, если вы продаете мусор.
– И что ты ответил?
– Ответил, что подумаю. Мол, надо поменять верхнюю панель и отполировать корпус. И что поэтому так дешево. Они начали давить: мол, завтра столько уже не предложат, корпусом они сами займутся, и пусть я не выпендриваюсь.
– А ты?
– А что я? Утром – деньги, днем – стулья.
– Ну да, правильно.
Мы вышли на бульвар Диджеев и побрели к Южной Окраине, к спальным районам. На первый взгляд, город Ж весь состоит из спальных районов, развитие которых замерло лет сорок назад, но на самом деле здесь везде есть жизнь, и на разных территориальных отрезках она разная. В центре живут быстрее, динамичнее, там все вечно сражаются со стрессами, с конкуренцией, с деньгами. Там сосредоточены все корни зла и добра, которые только может себе вообразить обыватель города Ж. На Окраине вроде как спокойнее, люди сговорчивей и проще, и власть не так давит, но всепоглощающая бедность и теснота компенсируют это упущение. Выбирая между бедностью и прессингом, что бы вы предпочли? Люди с мозгами (такие, как мы) держатся подальше от толпы, чтобы случайно не заразиться от них вассальским менталитетом. А то и вовсе уезжают куда подальше. Никакого патриотизма. Патриотизм в голове лишь у тех, кто не видел городов, более развитых и более комфортных. Более соответствующих его запросам. Патриотизм – это мягкий вид психоза, которым люди оправдывают свои бедность и бездействие. Они говорят о нем не потому, что действительно любят родину (за что ее любить?), а потому, что им некуда деваться. Рыбки тоже горят патриотизмом к аквариуму, потому что за его пределами нет воды. Мой друг, например, уже был за границей. Был – и вернулся. Потому что бизнес легче идет в среде хаоса и бандитизма. Но если вдруг условия перестанут его устраивать – он будет первым, кто отсюда уедет.
– Сегодня воскресенье?
– Вроде.
Я спрашиваю, только чтобы убедиться, что сегодня нас никто не схватит на улице и не начнет предъявлять обвинения (как это давеча произошло со мной). Во‑первых, воскресный дообеденный сон распространяется и на полицейских. Правоохранительные органы дрыхнут. Во‑вторых, официально Черный Рынок – я имею в виду ту официальность, которую может себе позволить подпольная торговля, – открыт только в субботу. А значит, и охота на его представителей тоже была в субботу. А значит, что сейчас, подойдя к мосту через речку‑вонючку, мы увидели бы только разбитые кованые ворота и ряды гаражей за ними. Очень старых, обшарпанных гаражей с навесными замками на дверях. И больше ничего.
Но мы идем домой к Сенку, и ворота Черного Рынка нам не по пути.
– Я решил забрать Матильду из лагеря.
Вот так новость.
– Зачем?
– Там ее ничему хорошему не научат. Да и врачи эти мне не нравятся. Они считают отклонением от нормы то, что ребенок не повторяет за всеми эти глупости про равенство и братство. Не пьет набор таблеток за обедом. Не страдает фигней. Я вообще считаю, что любить родину необязательно, потому что наша родина не здесь, а читать и писать Мотя и так умеет. А кроме как читать и писать лагерь только материться может научить.
– Согласна. Эх, кто бы меня в свое время вот так же взял и забрал из этого гадючника?
– Вот и я думаю, кто бы меня забрал?
Нам с Сенком не повезло, государственное образование уже проехалось по нашим умам и убедило, что светлого будущего здесь нет.
– Я, может, стал бы каким‑нибудь влиятельным политиком, изменил бы мир к лучшему.
«Ну‑ну, а так всего лишь – дипломированный математик и программист, который знает все на свете», – проворчал голос в моей голове.
Кроме вздоха, мне нечем ответить. Если бы Сенк действительно стал политиком, он или изменил бы мир к лучшему, или сам стал бы одной из этих сытых улиток, делающих селфи в здании парламента. Наши политики – единственные, пожалуй, на всей планете люди, ничего по сути не делающие, но при этом никому недоступные из‑за вечной занятости. Сенк – полная им противоположность: он все время чем‑то занят, но всегда открыт для диалога. Хотя даже и без него мир и порядок были бы реальны в нашей стране, если бы не жадность. Ведь что такое идеальный государственный режим? Это когда народ говорит: «Дайте нам пожить спокойно!», а власть говорит: «Валяйте». Но политиков губит жадность. Они называют это здоровым меркантилизмом человеческой природы, но на самом деле это натуральная жадность.
– Матильда рада?
Сенк впервые за все время нашей прогулки от полицейского участка улыбнулся.
– Ну еще бы. Радости полные штаны. Ты бы это видела… как будто второй день рождения или Новый год, или зубная фея прилетела. Она вообще впечатлительный ребенок, но такой радости я давно не наблюдал.
Я расцвела пуще прежнего. Во‑первых, потому что Матильда – это малолетняя версия меня, и я полностью понимаю и разделяю ее радость. Во‑вторых, потому что улыбка Сенка заразительна. Это авторитетная улыбка. Она пропагандирует рациональный оптимизм. Когда Сенк улыбается, его северное лицо, по которому никогда не определишь, обнять он тебя хочет или зарезать, обезоруживается. Сенка это немного смущает, и улыбки он обычно сдерживает. Но иногда они сильнее. Он смотрит в пол и лыбится, и в голове у него проносится что‑то хорошее, а вокруг глаз и в уголках губ расцветают веера мелких ровных морщинок, которых ни при каких других условиях не увидишь.
Бульвар Диджеев скатывался к Окраине, по обеим сторонам появлялось все больше переполненных урн и тощих диких собак.
Дом номер 17‑А. Мы заходим во двор – святая святых любого захолустья. Кроме колючих заборов, выращенных бессистемно и, как следствие – бесполезно, старых деревьев и лавочек с пенсионерами здесь практически ничего нет. Даже эти суррогаты нормальной жизни, построенные давным‑давно волею бывшей империи, давно свое отжили. Держатся только на энтузиазме местных жителей. Потому что ничего, кроме этих суррогатов, у них нет. И так везде. И везде одно и то же.
– А у нас намечается небольшой переездик, – заявил Сенк, как только мы вступили в лоно тихого двора и наши шаги приблизили нас к подъезду.
– Ух ты, и куда?
– Далеко.
Я подумала, что дело, скорее всего, в экономике. Вообще экономика – это такое мощное нечто, что прекрасно знакомо мне – в теории, а Сенку – на практике. Комбинация представлений выходит немного странная, но друг друга мы понимаем.
– По какому поводу?
– В среду начинается война.
– С кем?
– Да все с теми же.
– А почему именно в среду?
– Без понятия. Мои информаторы говорят, что в среду, а им я доверяю. Они мне и свистнули, что ты в участке. Еще вчера вечером.
Я обескураженно догадываюсь, что следит за мной не только мое начальство. Таинственные информаторы – это люди, которые все знают, но ничего не говорят. А если и говорят – то как снег на голову. Без прелюдий, без объяснений. Но зато – по делу. В этом я с удовольствием вижу свою любимую эпистемологическую доктрину: если нет способа проверить информацию об опасности – нет лучшего выбора, кроме как просто поверить ей. Потому что варианта всегда четыре. Первый – мы верим в опасность и уходим. Результат: мы избегаем беды. Второй вариант – мы не верим в опасность, но все равно уходим. Результат: у нас развивается паранойя, но мы предусмотрительно избежали беды. Вариант третий – мы не верим в опасность и не уходим. Результат: мы консервативны в своих убеждениях, и из‑за этого у нас могут быть неприятности. Вариант четвертый – мы верим в опасность, но все равно не уходим. Результат: мы идиоты. И сполна за это платим.
Мне всегда больше нравился первый вариант. Потому что все в выигрыше – не важно, оправдается ли опасность или нет. Мы ничего не теряем. А город Ж, несмотря на всю мою к нему родственную симпатию, для жизни совершенно не пригоден, и давно пора было отсюда уехать.
– А ты сам как думаешь? – мой скептицизм еще не наелся. – Может, твои информаторы тебя разыгрывают? Или их переманила к себе оппозиция? Или кто‑то хочет тебя подставить?
Мой друг вздохнул, как вздыхают перед ребенком, которому сейчас надо объяснить что‑то житейское, но неочевидное.
– Энн, это всего лишь повод. Я в любом случае уехал бы – только позже. Когда‑нибудь этот корабль все равно потонет. Мало ли кто мог решить подковырнуть меня таким образом.
Теперь вздохнула я. Смысл уезжать есть. Даже такому порядочному кандидату наук, как я. Потому что Сенк – это индикатор безопасности. «Бедометр». И если он уезжает – это значит, что критический порог выживательности достигнут. Дальше – смерть.
Деревья двора – старые липы и осины – улыбаются сентябрьской зеленью. Дома закрывают их плотным кольцом от бульвара Диджеев, а речка‑вонючка – от пустыря и границы города. Дальше цивилизация заканчивается. Забор с колючей проволокой, контрольно‑пропускные пункты. Здесь люди живут, будто на краю Земли, у самого обрыва. Там – страшно.
– Послушай, а у тебя есть доказательства того, что эти твои мистические информаторы правы?
Я иду, стараясь не поднимать подошвами пыль – не хочу запачкаться. Асфальт во дворе дома номер 17‑А есть, но не везде и его мало. А кеды свои я люблю.
– Энн, – мой друг смотрел себе под ноги, – ты когда‑нибудь слышала о балтиморском биржевом брокере?
Ох, ну кто бы сомневался. Аналитики больших данных знают все.
– Не слышала. Я вообще не слежу за новостями.
– Матильде я уже рассказывал эту историю, – мы приближались к дому, – тебе расскажу еще раз. Однажды одному среднестатистическому калифорнийцу пришло неожиданное письмо. Оно было от балтиморского биржевика, который рекомендовал калифорнийцу вложиться в какие‑то акции, которые, как он утверждал, должны вырасти. Проходит неделя, и эти самые акции действительно растут. А наш калифорниец получает еще одно письмо от балтиморского брокера, в котором тот рекомендует вкладываться уже в другие акции. И действительно, акции, расхваленные брокером, растут как заговоренные. И так десять недель подряд. Один за другим пророчества в письмах сбываются. Калифорниец, получающий письма, чешет затылок: ну и ну! Вот это брокер! Вот это он шарит! И вот здесь – внимание. На одиннадцатой неделе калифорнийцу приходит очередное письмо с предложением инвестировать деньги через этого балтиморского брокера – ясен пень, с огромной комиссией за точность оценок, которую он продемонстрировал десятью предыдущими предсказаниями. Звучит соблазнительно, да? Наш калифорниец думает, что этот балтиморский брокер просто биржевой гуру. Он же десять раз подряд составил верные прогнозы. В экономике, Энн, это почти нереально. А в экономике города Ж – просто нереально, без «почти». Но теперь представь, с какой точностью дают прогнозы дилетанты. 50/50, да? Он тычет пальцем в небо. Вероятность того, что он в первый раз даст верный прогноз, – 50%. Во второй раз – 50% от 50. Это вообще четверть. Дальше – хуже. С каждым разом вероятность уменьшается. А шансов предсказать так десять раз подряд – почти ноль. Но у этой истории есть изнанка. Энн, посмотри на нее не с позиции калифорнийца, а с позиции балтиморского брокера. Итак, первая неделя прогноза. Письма получает не один калифорниец, а 10 240 американцев из разных штатов. Но письма эти были разные. Половина из них сообщала, что акции вырастут – как это было с письмом тому калифорнийцу. А вторая половина сообщала противоположное. То есть – что эти же акции упадут. Проходит первая неделя, на бирже происходят изменения. Акции выросли. 5 120 человек, которые получили письма с неправильным прогнозом, больше ничего не получают от балтиморского брокера. Они – в пролете. Но наш калифорниец и еще 5 119 человек, получили «правильный» прогноз. И на следующей неделе они опять получают письма. Здесь, как и в прошлый раз, половина утверждает одно, половина – противоположное. И после этой недели остается 2 560 человек, которые получили два правильных прогноза подряд. И так далее. Энн, ты умеешь считать? После десяти недель остается десять «финалистов», которые десять раз подряд получили верные прогнозы от балтиморского брокера – независимо от того, что происходило на бирже. Эти десять человек уже думают, что он гений, и верят на все сто процентов, что и будущие его прогнозы окажутся верными. И готовы хорошо ему заплатить.
Я послушно дала увести себя в дебри Сенковых мыслей, оглянулась по сторонам и нашла их весьма резонными. Правильными. Прямоугольными. Как и все в голове моего друга.
– Ты думаешь, что утверждение о начале войны – такая же лотерейная рассылка?
– Без понятия, – пожал плечами Сенк, – но я думаю, что их отправитель хочет, чтобы я верил ему. И хочет, чтобы я думал, будто он знает больше меня.
– Зачем тогда ты ведешь себя, будто действительно веришь в это?
Тут Сенк меня удивил.
– А почему нет? Какое мне дело до человека, решившего со мной поиграть? Энн, война – это биржа. Если наш прогнозист прав, то, уехав, мы избежим катастрофы. А если не прав – то мы больше никогда не получим от него писем. Только и всего.
Мы прошли через весь двор, миновали ряд автомобилей, припаркованных прямо посреди тротуара. Оставалось совсем чуть‑чуть. Под домом номер 17‑А мы вступили в тень – солнце спряталось за крышей. Тень позволила мне перестать все время щуриться.
На лавочках у подъездов сидят пожилые женщины и неторопливо беседуют.
– Значит, побег. И куда мы собираемся?
Я беспечно надеюсь на то, что план уже есть. Кто‑то может возмутиться насчет моей пассивности. Штурвал до сих пор был у Сенка, и зачем отбирать его, если Сенк – прекрасный мореплаватель?
– Пока не знаю, но далеко.
«Далеко» – это куда? Такой ответ лучше, чем ничего. Но меня он не устраивает.
– А нам хватит документов на это «далеко»?
Выезжая из города Ж, в первую очередь нужно беспокоиться не о том, чтобы на выезд хватило денег, а о том, чтобы хватило документов. Потому что лучше остаться нищим, но свободным, чем нищим и в тюряге (а это неизбежно, если при выезде обнаружатся какие‑нибудь мелкие недочеты в документах).
Если вы местный и хотите провести отпуск на море или в горах, или в каком‑нибудь Египте – забудьте. Выбраться из города Ж тем сложнее, чем хуже ситуация внутри. А ситуация внутри у нас зависит от ситуации снаружи. Внешняя политика постоянно становится причиной каких‑то мелких скандалов. У нас долги. Много долгов. Еще после развала империи, когда все республики немного сошли сума от своей независимости, лидером осталась бывшая столица. Это значит, что самый дорогой экспорт, самые лучшие инвестиции, самые выгодные дипломатические отношения – это все туда. Второй Карфаген, богатый и недоступный. (И недоступный как раз из‑за богатства.) Мы, смотрящие снизу вверх, за два десятка лет так обросли долгами перед этим громилой, что сидим теперь на пороховой бочке. Оборотный капитал, с которого надо было начинать экономические отношения, плавно уплыл в карманы тех, кто при власти. Они ведь, сердечные, при империи не могли себе позволить лишний кусок сыра купить, а тут такая удача. Всю свою жизнь они были такими же нищими и немыми, как теперешние жители города Ж; росли на идее, что капитал нужно зарабатывать долгим и тяжким трудом – и чем этот труд мучительнее, тем лучше. Поэтому как только империя развалилась – дышать резко стало легче. Никто больше за ними не следит. Никакого Большого Брата над душой. Пора гулять, отрываться за все годы ада. В их руках теперь власть. Деньги всей страны – под их контролем. Как отказать себе в таком угощении?
Долги наслаивались один на другой. Чтобы развиваться, собственных ресурсов городу Ж не хватало. Начались кредиты. Одалживания. Видимость процветания – бутафорные улыбки. И теперь кредиторам проще уничтожить город Ж и забрать себе все его имущество, чем возиться с отсрочками. Я не удивлюсь, если на самом деле выяснится, что так оно и есть. Нас раздавят, как комара, который посягнул на человека.
Сюжет обострялся еще и праздником, Днем Коалиции. Общенародное веселье, на которое потратится куча денег. Блины на площадях, нарядные лошади, живая музыка. Вечером веселящиеся все равно вернутся в свои халупы, к своим муравьиным делам, а денег на банкет утечет немерено. Праздники – это всегда раздолье для воровства. Потому что выделяемый бюджет на них строго фиксирован, а расходы – нет. Никто не ведет учет блинов и лошадиных нарядов. Можно принудить толпу к экономии. «У нас трудное финансовое положение, поэтому вместо трех блинов вы получите два!» Пир во время чумы. Причем очень затратной чумы.
До самой квартиры Сенк шел молча. На его лице отображался мыслительный процесс.
– Во вторник будет праздник, парады всякие, народ гуляет. Вот под шумок и смоемся. В самый раз. Единственное, что меня волнует, – документы на Матильду. Их придется или докупать, или самим химичить. Можно попробовать подключить кого‑то из «фиолетового списка». Сейчас вообще сложно выехать, даже если с документами все окей. Поезда почти не ходят. И попасть туда можно или за сумасшедшие деньги, или известным путем. Сумасшедших денег у нас нет. Сама понимаешь…
– Сама понимаю.
Известный способ сразу отметается, так как мы еще не так низко пали и мораль человеческая нам не чужда.
– Раз уж мы ведем себя, как крысы, – продолжал Сенк, – то не лучше было бы достать где‑нибудь свое средство передвижения и уехать на нем? Какую‑нибудь развалюшку или там… я не знаю, что получится. Да хоть «Таврию»! С раздолбанной коробкой и без магнитолы. Не то, чтобы это было очень дешево, но зато мы не будем зависимы ни от каких поездов, ни от каких порядков.
– Только от дорожного патруля.
– А кто сказал, что мы будем ехать по дороге?
Мне нравится такой подход.
Наш подъезд – хотя голословно называть его «нашим» – скорее, «подъезд, ведущий к жилищу Сенка» – был приветливо грязным и пах гнилыми яблоками. Сыро и холодно. Но, поверьте, это все равно гораздо лучше, чем полицейский участок. Гораздо лучше.
Скрипучий и тесный лифт, в котором стоило бы забеспокоится о своей жизни. Предпоследний этаж. (Вообще по‑хорошему надо подниматься пешком – безопаснее.) Сенк упорно называет свое жилье квартирой. Не комнатой, ни в коем случае – квартирой. Стены оклеены обоями, из‑под которых проступают неровные спины цемента. Трещины. Будто кости.
Я понимаю, почему мой друг не хочет здесь жить.
– Привет! – с дивана доносятся лай пса и голос Матильды.
Удивительно дисциплинированная девочка: сидит одна, что‑то рисует. Фломастерами. Любопытно, где Сенк исхитрился добыть фломастеры?
– Привет, – отвечаю с порога я.
У Матильды длинные, темные, как у меня, волосы. Но, в отличие от моих, она часто укладывает их в какую‑нибудь прическу, в основном – «мальвину» или «гнезда». Изредка Матильда делала себе две «дульки», от чего сразу становилась одновременно и взрослее, и младше (не знаю, как это объяснить).
Несколько секунд ушло на борьбу с животным. Фэри, возрадовавшись нашему приходу, счел своим долгом подбежать и поставить лапы сначала на Сенка – тот увернулся, потом на меня – я тоже не лыком шита. Поставить лапы, навалившись хорошенько на гостя, и вылизать ему лицо – вопрос гостеприимства. После первой попытки пес хотел было приступить ко второй, но Матильда уже подбежала и поймала его за ошейник.
Сенк стаскивает пятками «мартинсы», не нагибаясь. Я терпеливо расшнуровываю кеды. Бросаю рядом сумку.
– Как дела?
Мотя изо всех сил сдерживает развеселившегося пса.
– Я нарисовала слона.
– Ты обедала? – Сенк сразу переходит к делу.
– Да. Супом.
– Разогрела?
– Нет.
– Я же просил разогреть.
Сам он почти никогда не разогревает еду. Никогда. (Только пюре.) Но убежден, что маленькие девочки должны есть исключительно разогретые супы. Холодный суп – смертельный яд.
– Энн, скажи, вот как с этим бороться? – он открывает холодильник и внимательно изучает продукты. Реплика была не столько вопросом мне, сколько укором Матильде.
– А я что? Ты знаешь, по какому принципу я питаюсь.
«Сорвал – съел». В крайнем случае – «купил – съел».
Сенк отрывается от холодильника и теперь его укоризненный взгляд сосредоточен на мне.
– Хоть бы раз мне подыграла.
Я тоже иногда задумываюсь об этом, но мой престиж в глазах Матильды для меня сейчас привлекательней, чем потакание консервативным представлениям Сенка насчет еды.
– Она в курсе?
– Как тебе сказать… И да, и нет. Я пока не знаю, как надо объяснять детям ее возраста, что такое война.
В этот момент Матильда, до сих пор прислушивавшаяся к нашей болтовне, гордо воскликнула:
– Я знаю, что такое война!
– Ты пока знаешь только, что такое перемирие, – снисходительно сказал Сенк. – И то – не сполна, потому что не можешь жить самостоятельно.
– Чувак, объясняй нормально. – Я решила вмешаться. – По своей логике, она уже давно живет самостоятельно.
Матильда надулась, забрала со стола свой рисунок и ушла в другой конец комнаты – на жесткий пылесборник с подушками и двумя подлокотниками. Маленький, тесный, старый и пыльный, застеленный таким же старым и пыльным пледом. Давно удивляюсь, как Сенк до сих пор не выкинул этот странный предмет вон.
– В смысле?
– Для нее самостоятельность – это сидеть дома одной и иметь свободу выбора: разогревать себе обед или нет. Потому что раньше у нее и такой свободы не было. Она же еще помнит времена, когда ее не спрашивали, хочет она заплетать косички или нет. Хочет ли она спать в девять часов вечера или нет. А сейчас она хочет рисовать слона – и рисует. Хочет есть холодный суп – и ест его холодным всем назло. Ведь чем неправильнее ты ешь – тем вкуснее. Вот какова для нее самостоятельность. Свобода выбирать.
Сенк закатил глаза.
– Господи, что делает с людьми кафедра философии и религиоведения.
Матильда тем временем уже успела где‑то достать новый лист бумаги и опять что‑то рисовала, с ногами взгромоздившись на диван.
Я рассматриваю давно знакомую квартиру. Пространство условно разделено на «кухню» и «комнату». Кухня – это южная стена, вдоль которой выстроены почти‑белый холодильник, стеллаж с раковиной и плитой и такой же почти‑белый стол. Окна – серые прямоугольники. За ними – такие же серые прямоугольники других домов. Хирургическая чистота еще создает иллюзию «жить можно», но вся мебель настолько старая, что ее страшно использовать. Бытовой минимализм моего друга очень кстати. У него нет убежденности, что мебель должна быть «своей», что она должна нравиться. Ему она нравится, пока она выполняет свои функции. И пока вокруг чистота и сравнительная безопасность. Если завтра все развалится – не беда, купит новое. И относиться к нему будет так же, как и к старому. Я завидую такому отношению, потому что не умею жить на всем не‑своем. Мои окна – это панорамы, которые видны только с этого ракурса. Ракурс доступен только и только мне. Моя мебель – это именно МОЁ. Часть моего дома. Фактически часть моего мировоззрения. Если ломается что‑то, пусть даже мелкое – я расстраиваюсь, потому что другого такого же нет и не будет. Потому что каждая мелочь связана с каким‑то воспоминанием. Добыта каким‑то особенным образом, или кем‑то подарена, или сделана своими руками. А Сенку повезло. И его сестре повезло – они не привязываются к предметам, среди которых живут.
Попади я сюда одна – мне эта комната ни за что бы не показалось уютной. Обычный плед на разваливающемся диване. Обычный стол. Обычные окна. Но эти двое своим присутствием и обезьянник сделали бы уютным.
Сенк после долгих раздумий вытащил из холодильника тарелку с трупом картофельного пюре и банку консервированного горошка. Обе руки были заняты – дверцу захлопнул ногой. Запихнул все это в черную духовку плиты и оглянулся в поисках спичек. Без них не работает.
Сенк прищурился. Очень сильно. Он всегда щурится, всматриваясь вдаль. Коробка в поле зрения не было.
– Моть, ты не брала спички?
Матильда оторвалась от рисунка.
– Они на подоконнике.
Сенк подошел к окну – к тому, которое ближе к «кухне».
Спички действительно находились на подоконнике. Точнее – над подоконником. Они были аккуратно воткнуты в щель между оконной рамой и стеной, образовав стройную линию почти до самого потолка.
– Что это?
– Лестница для гномов.
Я забеспокоилась: вдруг Сенк сейчас испортит эту поделку и засунет спички обратно в коробок. Но Сенк, как оказалось, знает толк в искусстве. Он выдернул одну спичку с верхнего края «лестницы» и поджег духовку ею. Остальные так и остались торчать.
– А ты молодец, – с улыбкой отметила я.
– Не люблю рушить чужие миры, – так же спокойно отозвался мой друг. – Ты что‑нибудь будешь?
Я подошла к холодильнику, заглянула внутрь и с сомнением оглядела холостяцкий провиант. Еще одна открытая банка горошка, лимон и литровый пакет жирных сливок. Кто‑то любит наваристое какао по утрам.
– Нет, спасибо, – я закрыла холодильник, переключив свои мысли на какао. Вот от чего бы я сейчас не отказалась, так это от сочетания магния, калия и антиоксидантов. На самом деле я просто ужасно скучаю по нормальному горькому шоколаду. Его, увы, сейчас даже за сумасшедшие деньги и известный способ не достать. А перебиваться коричневатым порошком со странным составом, еще и залитым сливками (с еще более странным составом) – это не наш метод.
– А почему ты взял именно самую верхнюю? – мне вдруг захотелось понять отношение Сенка к спичечному искусству.
– Потому что, если бы я взял самую нижнюю, гномы бы вообще до лестницы не дотянулись. А так они смогут подняться, просто чуть ниже, чем было предусмотрено.
Я оглянулась на Матильду. Она с невозмутимым видом продолжала рисовать своих слонов. Значит, такая интерпретация ее удовлетворила. Ей не обидно. Меня всегда восхищали дети, которые безропотно адаптируются к суровым реалиям жизни, не канюча при этом и не жужжа. Которые понимают разницу между прихотью и необходимостью. Которые вообще понимают значение слова «необходимость». Нынешнее поколение кажется мне каким‑то стадом не очень умных, но осторожных травоядных, которые способны существовать только в своей идеальной среде обитания. В этом искусственном заповеднике они едят, молятся и размножаются. В разной последовательности и в разных пропорциях. И, что самое неприятное, взрослые, которые сейчас у власти и которые вынуждены как‑то контролировать популяцию молодняка, только способствуют повышению комфорта в их заповедниках. Чтобы жить там было еще легче и еще приятней. Чтобы они в этой своей неге окончательно забыли, насколько отличается их мир от реального, в котором, на секундочку, процветают болезни, нищета и безработица.
Не знаю, что из этого поколения выйдет, но явно какой‑то отстой.
Тем временем старушка‑духовка закончила свою работу, разогрев Сенку завтрак. К еде мой друг относится так же, как ко всему остальному (за редкими исключениями): со спокойствием, уверенностью и здоровым пофигизмом.
Он уселся на свою табуретку и принялся за пюре.
По комнате растекся горячий, опасный для голодной психики запах картофельного пюре с горошком.
Я тут же пожалела, что отказалась от «чего‑нибудь».
Матильда перестала рисовать и посмотрела в сторону кухни. Она наверняка думает о том же, о чем и я. Вскоре она подошла ближе и уселась на подоконник.
– Ты убедительно ешь, – я села на вторую табуретку.
Этот комментарий должен был объяснить непоследовательность с нашей стороны. Но Сенк наверняка и так все понял.
Теперь он знает еще и то, что мысленно две голодные вселенные уже поглядывают на его еду. И что касается силы воли, то герой здесь – Матильда. У нее была возможность слопать картошку вместо супа, пока ее брат вытаскивал меня из лап правоохранительных органов. У меня же такой возможности не было.
Тем не менее, я, чтобы составить хоть какую‑то компанию, достаю из буфета стакан и сажусь пить «чай с лимоном». Это стакан холодной воды, в который опущен пакетик ужасного черного чая и выдавлен один целый лимон. (Пакетик нужен для цвета. Лимон – чтобы заглушить отвратительный вкус чая.)
Я каждый раз травлю себя этим коктейлем, если надо отвлечься от ненужных мыслей. То, что я сверлю тяжелым взглядом поедаемое Сенком пюре, не считается. Это, в конце концов, обычный картофель, смешанный с эмульгатором, растительным жиром и молоком, солью и еще какой‑то хренью. А горошек – это просто горошек, смешанный с…
– Может, лучше ты ей расскажешь? – с набитым ртом спрашивает Сенк.
Я прерываю свои размышления и еще раз обдумываю эту фразу.
– Что и кому рассказать?
– Матильде. О том, что в среду начинается война и мы уезжаем.
Он цепляет вилкой пюре с двумя горошинами и сосредоточенно жует.
– Может, и лучше.
Я поднимаюсь из‑за стола, подхожу к подоконнику. Матильда по‑прежнему вся в своих размышлениях. Рядом – несколько незаконченных рисунков. Ее мысль витает где‑то между слонами и едой.
– Мотя, в среду начинается война и мы уезжаем.
Она оживилась.
– Мы возьмем с собой фломастеры?
– Конечно.
Приторно‑зеленый газон на рисунке врастает в такое же приторно‑голубое небо. Матильда принимается за смотрителя зоопарка. Высокий дядька почему‑то в белом фартуке и очках. Если бы не эти очки, он был бы чем‑то похож на Элвиса Пресли.
– Энн! – выкрикивает мой друг.
– Что?
– Так я и сам ей мог сказать.
– А зачем говорить иначе, если она поняла и так?
Судя по все той же невозмутимости, с которой Матильда рисовала дядьку в очках, она действительно все поняла. Поразительно беспроблемный ребенок.
– Возьмете меня с собой? – я спросила это только из вежливости. Все понимают: захочу – поеду. Не захочу – никто заставлять не будет.
– Придется.
– В смысле?
Когда Сенк говорит «придется» – это звучит нехорошо.
– Я не успел тебе сказать. У тебя теперь нет квартиры.
***
Больше всего на свете Матильда боится врачей. Причем не тех, которые просят сделать «а‑а» или ставят уколы. Уколы – это плохо, но не смертельно. По‑настоящему Матильда боится тех, которые вызывают к себе в кабинет и задают странные вопросы. «Какая сегодня погода?», «С кем из детей ты дружишь?», «Какой день недели был вчера вечером?» или что‑то в этом роде. Матильда всегда молчит. Она не любит, когда ее принимают за умалишенную. Своим молчанием она сопротивляется несправедливости. Если вы хотите узнать о погоде – посмотрите в окно, о дне недели – посмотрите в календарь, а то, с кем я дружу, вообще вас не касается.
Воспитатели – люди, по мнению Моти, не менее странные, – тоже умом не блистали. Фрау Гердт, например, и вовсе вела себя вызывающе. Даже для взрослых. Эта женщина с высокой старомодной прической и морщинистой шеей, казалось, вообще не умела сопоставлять свои мысли с тем, что творится на самом деле. Она приходила в настоящий ужас, если узнавала, что на уроке географии Матильда вместо карт рисует слонов. «Деточка, рисовать животных надо в свободное от учебы время! На уроке географии изволь заниматься географией! Это твоя обязанность, как ученицы. Лагерь существует для того, чтобы дать тебе образование! Еще и за государственный счет! Дети твоего возраста мечтают здесь учиться, а ты отвергаешь протянутую тебе руку!» Подобные выговоры приводили Матильду в уныние. Потому что на самом деле лагерь существует вовсе не для того, чтобы давать ей образование – лагерь существует для того, чтобы исследовать детей. И никто не просил никакой руки.
Хуже всего было то, что они не верили в ее слонов. В гномов. Вместо того, чтобы послушать о том, куда они уходят, Матильду сажали в кресло и просили выпить таблетку. Синюю. Круглую. После нее хотелось спать.
Однажды в воскресенье, когда ученикам лагеря разрешались визиты домой и Сенк забрал сестру погулять по городу, она рассказала ему о таблетках. Синих круглых пилюлях, от которых хочется спать. Сенк несколько секунд серьезно о чем‑то думал.
– А ты не запомнила состав?
– Я не видела упаковки. Мне даже блистер не дали.
– И название не сказали?
Матильда помотала головой.
– Вот суки, теперь и за детей взялись. – Сенк ощупал карманы, но сигарет, как обычно, не нашел. Он постоянно забывал о том, что завязывает.
Они медленно шли по городу.
– Как только у меня появится возможность, мы отсюда уедем.
– Куда?
– Не знаю. Туда, где лучше. К цивилизации. Моть, как только я раздобуду тебе документы, мы свалим.
В этом, столь серьезном и многообещающем заявлении Матильда почувствовала надежду. Ее заберут из этого места. От нее наконец все отстанут. Ей больше не придется ежедневно смотреть на морщинистую, как у рептилии, шею фрау Гердт.
Они зашли в кафе, выпили по двойному шоколаду, Сенк рассказал, как дела в мире. Конфликты, долги, и новые конфликты по поводу долгов. По городу пустили петицию о ночном транспорте. За езду на нерастаможенном авто ввели уголовную ответственность.
Восьмилетняя девочка была гораздо более благодарным слушателем, чем многие его знакомые. Экономика, история, новости о соседях, рассуждения о вреде синтетической еды – все это было воспринято с вниманием и осмыслением. С готовностью высказать возражения и аргументировать их. Сенк никогда не верил учителям сестры, когда те жаловались на ее успеваемость. Он по‑своему ею гордился. Если Матильда не учит географию, значит сей предмет настолько бесполезен, что это очевидно даже ребенку.
Ближе к вечеру, когда выходной закончился и воспитанники лагеря должны были возвращаться в свои корпуса, Сенк еще раз пообещал сестре побег, посоветовал быть снисходительнее к столовским супам и добавил:
– Держитесь, фройляйн Реймер, осталось совсем чуть‑чуть.
Матильда с улыбкой отсалютовала.
– И это… таблетки не пей. Ни под каким предлогом.
– Хорошо.
Сенк с грустной улыбкой проследил, как она возвращается в свой корпус, где по двору бегали нормальные дети. Он считал слово «норма» ругательным. Но на этот раз он мог не беспокоиться, Матильда себя в обиду не даст. Ей и раньше удавалось оказывать сопротивление чудачествам этих взрослых, а теперь, когда ее политику поддержал еще и самый умный и сильный в мире брат, фрау Гердт может ругаться сколько угодно – рано или поздно ее затопчут слоны.
На следующей неделе Сенк забрал сестру из лагеря, как и обещал.