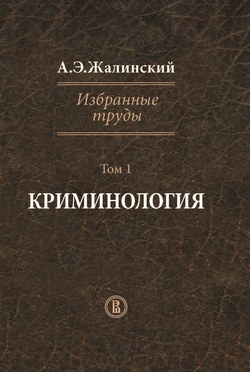Читать книгу Избранные труды. Том 1. Криминология - А. Э. Жалинский - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Раздел 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИИ
Современные проблемы криминологического дискурса[31]
ОглавлениеПреступность получает в различных секторах и слоях общественного сознания множество различных определений и объяснений, передающих различные проявления ее природы, отражающих ее внутренние закономерности и признаки, внутренние характеристики. Одна из наиболее значимых характеристик преступности состоит в том, что она выступает как феномен, привлекающий особое внимание общества. По многим причинам преступность является таким объектом, который не просто постоянно обсуждается, осмысливается, оценивается субъектами социального действия, но и меняется под воздействием социальных оценок и обусловленных ими социальных предпочтений. Эта особенность преступности, разумеется, не оставалась незамеченной ее исследователями. Она так или иначе рассматривалась в связи с исследованием правосознания, правового и собственно криминологического мышления, с разработкой методологии, методики изучения преступности и проч.
Недостаточно исследованным или мало привлекающим к себе внимание является, однако, процесс возникновения и выработки в обществе суждений о преступности, включение этих суждений в коммуникационные процессы, в общественные отношения, их переработка и влияние на поведение, в данном случае преступное. Для описания этого процесса в данном случае используется понятие общего дискурса о преступности, в котором так или иначе участвуют все субъекты социальных отношений, и криминологического дискурса. А на этой основе рассматриваются некоторые гипотезы исследования дискурса, место криминологического дискурса в системе понимания преступности, структура криминологического дискурса о преступности, проблемные ситуации состояния криминологического дискурса о преступности, делаются некоторые выводы.
Выдвигаемые гипотезы. Первая состоит в целесообразности выделения и особого рассмотрения как самостоятельного социального феномена дискурса о преступности, который понимается как имеющий общие предмет и содержание процесс обсуждения социального феномена преступности и который должен быть включен в предмет криминологии. На этой основе выделяются следующие гипотезы:
– криминологический дискурс является обязательной составляющей общесоциального дискурса о преступности, в котором участвуют заинтересованные субъекты социальных отношений; в силу специфики восприятия преступности как объекта социального воздействия и связанных с нею явлений криминологический дискурс играет ведущую роль, поскольку для общества особое значение имеет профессиональная информация о преступности;
– эта информация далее обозначается как криминологическая с тем, во всяком случае, чтобы отличать информацию о социальных реалиях – сущем от информации об уголовном законе – должном, но обеспечивать получение и другой информации неопределенно широким кругом адресатов, коллективных и индивидуальных субъектов противодействия преступности;
– целостное рассмотрение дискурса о преступности, его общественной и криминологической составляющих позволит получить лучшее представление о его участниках, их позициях и возможностях, содержании и процедурах обсуждения тематики преступности, его влиянии на осуществляемую в стране уголовную политику и практику борьбы с преступностью;
– реально формирующиеся в ходе социального и криминологического дискурса позиции как различных социальных и профессиональных групп, так и населения в целом далеко не всегда адекватно отражают реальное состояние преступности, ее факторы, процессы воздействия на нее и иные связанные с преступностью явления; проявляется это в том, что по ряду направлений позиции общества и социальных групп либо формируются под влиянием неадекватной информации, либо в недостаточной степени или предвзято, ложно политизированно выявляются и анализируются специалистами, либо мистифицируются в профессиональной криминологической литературе;
– наибольшая опасность для интересов страны возникает там и тогда, где и когда общественное мнение по тем или иным проблемам воздействия на преступность, в целом содержание общественного правосознания далеко не всегда адекватно интерпретируется с политических и профессиональных позиций при принятии различного рода правовых решений, прежде всего в сфере политики борьбы с преступностью;
– рассмотрение и совершенствование процесса обсуждения проблем преступности как дискурса позволит более полно учесть ход и содержание процесса формирования информации о преступности, может способствовать возможному в сложившихся условиях позитивному развитию процессов познания и обсуждения возникающих в данной сфере проблем, способно повысить эффективность контроля над преступностью при значительной экономии затрачиваемых социальных средств, включая «сбережение людских ресурсов страны».
Необходимость совершенствования дискурса о преступности. Три основных фактора определяют актуальность данной проблемы.
Первый — недостаточное удовлетворение реально усилившейся в современном российском обществе потребности в информации, причем именно такой, которая нужна для формирования социальными субъектами своих действительных, а не деформированных позиций по отношению к преступности. Нужно прямо сказать, что криминологическая информация, исходящая от профессионалов, нередко затемняется псевдополитизированными оценками состояния преступности, порождающими социальный страх и не приносящими пользы. Пишут о «триумфе» преступной среды, криминальной революции и проч. В то же время оказалась незамеченной практическая ликвидация наиболее популяризуемых форм организованной преступности, осталась мифом русская мафия за границей, нет никаких свидетельств того, что Россия является криминальным, в отличие от многих других стран, государством. Субъекты социального действия требуют прямо или конклюдентно предоставления им разнообразной по содержанию, притом верифицируемой, т. е. поддающейся проверке, и в то же время полезной, т. е. пригодной для использования, криминологической информации. Эта потребность слабо осознана в правовой литературе ввиду, возможно, подспудного отношения к гражданам страны как к пассивному объекту воспитательного воздействия[32].
Между тем о росте этой потребности свидетельствует, по меньшей мере, появление серьезных исследований преступности, прежде всего экономической, но не только ее, экономистами, социологами, политологами[33]. На практике все чаще возникают и распространяются специфические методы борьбы с различными видами экономических преступлений и проч. В таких условиях расхождение между потребностью в адекватной информации и социальной потребностью в ней влечет, соответственно, с одной стороны, неудовлетворенность адресатов криминологическою дискурса состоянием и надежностью получаемой информации, на которую затрачиваются существенные социальные ресурсы, а с другой – недооценку ими получаемых сигналов. В конечном счете это и является главным, это влияет на качество принимаемых решений и доверие населения к власти в целом, суду и правоохранительной системе в частности.
Второй фактор, определяющий актуальность изучения криминологического дискурса и развития его институциональной основы: происшедшие и происходящие изменения в динамике и структуре преступности при росте ее непереносимости обществом, во всяком случае, частичной. С ним связаны противоположные по характеру последствия. С одной стороны, новые явления в сфере преступности генерализуются, объявляются постоянными, оцениваются как угроза национальной безопасности, хотя они нередко носят временный характер и быстро изживаются обществом. С другой стороны, многие системные явления, крайне опасные для общества, фиксируются поздно или не фиксируются вообще.
Третий по очереди, но не по значению фактор, – необходимость для многих стран, если не повсеместно, преодоления реального кризиса уголовной политики, уголовной юстиции, уголовного права, который проявляется в росте преступности при усилении репрессии и несоразмерной затрате социальных ресурсов, включая прежде всего человеческие.
Место криминологического дискурса в системе понимания преступности. Сама идея отдельного анализа криминологического дискурса, повторим еще раз, связана с необходимостью более предметного и более квалифицированного подхода к осознанию, «охватыванию» процесса выработки людьми, а в данном случае специалистами в области криминологии, своих позиций по тем или иным вопросам и их распространения в обществе в целях достижения некоторого разумного согласия[34]. В реальной жизни граждане имеют много институциональных возможностей сопоставлять свои взгляды: это средства массовой информации, политические и иные встречи различного рода, это искусство, неформальное общение, наконец, направленные дискуссии и проч. Все эти процессы также в той или иной мере охватываются или могут охватываться понятием дискурса, который, с одной стороны, превращается в составляющую предмета правоведения, и, с нашей точки зрения, прежде всего криминологии как самостоятельной науки. Но именно криминология обеспечивает эти общие направления социального дискурса, поскольку она, как наука, сама по себе представляет поле дискурса и собственно дискурс. Поэтому криминология должна быть, что очевидно, социально результативной, должна вырабатывать, что она и делает, необходимую обществу информацию, а для этого обеспечивать оптимальное соотношение между знаниями, необходимыми для ее собственных нужд, и информацией регулятивного характера, которую могли бы проверять и оценивать субъекты, не обладающие специальными познаниями в криминологии.
Определяя более подробно место криминологического дискурса в процессе отражения преступности, следует использовать общую, исходную характеристику дискурса как форму коммуникации, использующую проверяемые аргументы, осуществляемую при соблюдении некоторых условий и делающую своим предметом или темой рассмотрение спорных проблем. В этом смысле предметно дискурс – это:
а) коммуникация, т. е. взаимодействие, которое, в принципе, должно изучаться криминологией;
б) речевое взаимодействие, речевая практика, которая часто сводится криминологами при изучении правосознания к ответам на вопросы, т. е. к анкетированию, и опросам, что совершенно недостаточно;
в) процесс, направленный на определенный предмет, которым являются спорные проблемы, что обычно схватывается в структуре правосознания и отношении к уголовному закону;
г) система аргументов;
д) круг участников.
Можно к этому добавить, что, кроме того, дискурс должен пониматься как коммуникативный процесс, свобода и непредвзятость которого состоят в отсутствии политической либо иной зарегулированности.
Каждая из этих составляющих дискурса формирует отношение общества к преступности и предполагает активизацию процессов обсуждения преступности, продвижения к некоторому согласию о природе, закономерностях и судьбах этого явления. Дискурс реально опирается на то, что люди имеют свое мнение, будь оно индивидуальное, групповое, общественное, устойчивое, преходящее, укорененное, случайное, правильное для данных условий или неправильное. Это наличие мнения в обществе является неотъемлемым условием его существования. Именно поэтому в любом обществе без всякого исключения с различной степенью развитости и осознанности существуют или должны существовать самые разные каналы анализа и механизмы учета общественного мнения, начиная с института выборов, когда оцениваются различные политические программы, по общему правилу декларирующие отношение к преступности.
Вопрос в том, насколько глубоко вовлечены субъекты социального действия в формирование позиций общества, насколько адекватны понимание и учет интересов общества и образующих его индивидов и групп в реализуемой социальной и уголовной политике. Дискурс охватывает при этом такие формы социальной активности, которые не просто являются необходимыми, но и не описываются иным понятийным аппаратом гносеологии права и механизма его действия. Так или иначе, развитие теоретического осмысления и практического совершенствования криминологического дискурса о преступности как открытой социальной коммуникации особого рода должно быть направлено на его адаптацию к нуждам общества, что предполагает наличие научной независимости, профессионализма, открытости реалиям и при всем этом должного самоограничения. Внимание к социальному дискурсу означает, что даже недостаточно устоявшиеся, в определенном смысле неверные суждения граждан должны быть осознаны как действительно мощный фактор, определяющий преступность, а также механизм ее возникновения и преодоления.
Структура криминологического дискурса о преступности. До сих пор рассуждения о дискурсе шли на уровне должного или, скорее, на теоретическом уровне. Между тем крайне важно, в принципе, уяснить, каковы структура и реальное состояние дискурса в современном обществе и, в частности, как осуществляется дискурс в рамках криминологического знания, что образует его предметную структуру именно в данной сфере. Разумеется, здесь об этом высказываются весьма неполные и предварительные суждения, преимущественно основанные на анализе опубликованных криминологических работ и том, что именуется в социологии включенным наблюдением.
Можно полагать, что криминологический, как и всякий иной, дискурс образуется такими предметно существующими элементами, как содержание, субъекты, предмет, процедуры и правила, динамика и результаты дискурса. Кратко рассмотрим это.
Содержание дискурса. Им является, в конечном счете, обсуждение проблем преступности, т. е. представление в процессе дискурса его участниками разнородной информации, ее проверка, сопоставление и оценка. Такое обсуждение постоянно происходит в разных формах и с разной интенсивностью, поскольку все субъекты, профессионально занимающиеся преступностью, отражают ее в своем индивидуальном или коллективном сознании, а затем с той или иной степенью полноты и проясненности фиксируют в устных выступлениях и публикациях. Все они определяют свои позиции по тем или иным вопросам, влияя тем самым на актуальных слушателей и читателей. Трудности состоят в сведении содержания дискурса к одностороннему увеличению объема информации без ее обсуждения, сопоставления, оценки, грубо говоря, в возникновении хуторской системы в науке вместо рынка идей.
Субъекты дискурса. Его участники могут быть классифицированы по характеру решаемых задач, статусам, подготовленности, установкам и проч. В частности, стоит обратить внимание на то, что в криминологическом дискурсе принимают участие практики и лица, профессионально занятые научной работой, а также лица – и их становится все больше, – которые выполняют практические, исследовательские и обучающие функции одновременно. В современных условиях существенны различия политических, научных, теоретических исходных положений специалистов в области криминологии. Плохо это или хорошо, участники дискурса имеют различные представления о благе страны, способах решения ее задач, что, собственно говоря, и актуализирует необходимость достижения взаимного понимания. Вопрос о правильности тех или иных исходных положений юриста, разумеется, должен решаться на основе уважения Конституции страны и началах законности. В этих пределах, однако, он является предметом длительных размышлений, требует серьезных аргументов и нередко времени. Реальное участие различных субъектов в дискурсе неодинаково. Однако возможности участников дискурса обосновывать свои суждения в процессе дискурса, т. е. быть услышанными, должны по возможности выравниваться.
Предмет дискурса. Его образует тематика, обсуждаемая в процессе дискурса. На наш взгляд, она включает собственно криминологические проблемы и проблемы, относящиеся к состоянию дискурса, в том числе, например, соблюдение процедур и правил добросовестного научного поведения его участников. Обсуждаться могут проблемы уголовного законодательства, собственно состояние преступности, иные самые различные вопросы, относящиеся к преступности, включая доверие к правоохранительным органам, суду, представления о коррумпированности власти и проч. Формой выражения тематики дискурса могут быть научные суждения, литературные произведения, немотивированные, но основанные на некотором правосознании высказывания граждан, программы политических сил. Чаще всего они отражают реальное существование таких интегральных тем, как насилие, терроризм, коррупция, нарушение прав личности, организованная преступность, злоупотребление экономической власти. В настоящее время особого внимания заслуживает аргументация обсуждаемых проблем. Складывается нуждающееся в проверке впечатление, что проблематика криминологического дискурса по своей структуре не соответствует структуре преступности и реальной опасности отдельных ее групп и видов. Криминологические исследования в значительной степени сосредоточены на проблемах неясно определенной организованной и экономической либо организованной экономической преступности. Бытовая насильственная преступность, неосторожная преступность, виктимность несовершеннолетних, традиционные кражи, образующие значительнейшую часть преступности, явления аномии, взаимоотношения власти и граждан, проблемы профилактики и многие другие отходят в работах криминологов на второй план. Во многом этому способствует, возможно, неосознанно, стремление к усилению тревожности, критике состояния собственной страны.
Процедуры и правила дискурса. В том или ином виде они существуют всегда. В идеале такие процедуры должны упорядочивать столкновение мнений в процессе дискурса, прежде всего обеспечивая доступ к нему. Однако можно считать весьма вероятным, что в достаточной степени нигде этого не происходит. Во многих отраслях соблюдение правил дискурса, вероятно, представляет собой болезненную социальную проблему. Применительно к криминологической литературе, можно полагать, актуальной является разработка требований к процедурам представления информации, характеру аргументов, проверяемости фактических данных, равно как и проблема уважения к позициям оппонентов, и обеспечение ответа на отклоняющиеся позиции.
Динамика и результаты дискурса о преступности. В принципе, он должен вести к углублению взаимопонимания различных субъектов социального действия и тем самым при соблюдении определенных условий – к некоторому согласию, правильно или неправильно отражающему интеллектуальные возможности общества, живущего в сложившихся социальных условиях. Практика ведения дискуссий о смертной казни как виде наказания, o разумности отдельных уголовно-правовых запретов реально показывает, что позитивное направление общественного дискурса о преступности скорее является пожеланием, чем реальностью. Но в итоге в обществе все-таки возникают в виде господствующего мнения, правда, далеко не во всех необходимых случаях, согласованные результаты дискурса, которые определенным образом связывают власть, в какой-то части представляя своего рода общественный договор. Именно на их основе программируется деятельность власти, поскольку она понимает нежелательность сталкиваться с осознанным или неосознанным сопротивлением социальных сил. Разумеется, это в известном смысле идеализированное представление о дискурсе, скорее раскрывающее его потенциал, чем его реалии. Но оно позволяет отнестись к дискурсу как к процессу, способному развиваться и становиться более эффективным.
Проблемные ситуации состояния криминологического дискурса о преступности. Обращение к ним основано на предположении, что как содержание современной, причем не только российской, криминологии не соответствует потребностям практики, так и процесс обсуждения проблем преступности находится не в наилучшем состоянии. Конкретные суждения об этом, однако, требуют серьезного обоснования, поэтому в данном случае они носят не оконченный, но сигнальный характер. Речь идет лишь о том, что затрагиваемые ниже проблемные ситуации нуждаются, как можно полагать, в специальном обсуждении[35].
Поэтому здесь для самой общей характеристики криминологического дискурса вначале выделяется несколько групп таких ситуаций. Среди них ситуации, связанные с:
а) качеством и развитостью дискурса;
б) недостаточностью или искаженностью информации, необходимой для дискурса;
в) отсутствием равного доступа к дискурсу;
г) нарушением процедур дискурса;
д) пренебрежением результатами дискурса.
При обращении к этим и иным проблемным ситуациям нужно иметь в виду, что они в своей основе порождены устойчивыми факторами, но все же поддаются определенному разрешению в существующих рамках. Обратимся к некоторым примерам.
Недостаточная развитость дискурса. Это проявляется как в круге тем, так и в характере информации, раскрывающей в каждом случае предмет обсуждения. Что касается круга тем, он складывается в известной степени стихийно и, как уже отмечалось, вряд ли отражает реальные состояние, структуру и динамику преступности в России. В рамках этого текста трудно дать оценку значимости той или иной проблемы. Сейчас заметно увлечение криминологов исследованием организованной преступности, связь которой с обыденной, массовой преступностью не раскрыта и для большей части населения, судя по пилотажным опросам, является чем-то весьма далеким, скорее, сюжетом сериалов. Далее, не отрицая опасности так называемой коррупции, экономической преступности, стоит хотя бы на основе анализа потока диссертационных работ указать на не вполне обоснованное интересами дела тяготение отдельных исследователей к этой проблематике. Едва ли не десятки диссертаций, посвященных проблеме отмывания денег, не свидетельствуют о разумной организации криминологического дискурса.
Вероятно, необходимо в рамках общественного дискурса особо обсудить критерии определения значимости той или иной проблемы, связанной с преступностью, раздельно для групп преступности, факторов или контекстных характеристик преступности, мер борьбы с преступностью.
В этом плане необходимо добиваться того, чтобы в общественном дискурсе были представлены и обсуждались действительно все значимые для общества темы преступности, а их действительное значение оценивалось более или менее в соответствии с действительностью. Сделать это более чем сложно, но хотя бы иметь в виду такую необходимость нужно.
Вместе с тем, возможно, более опасным признаком недостаточной развитости криминологического дискурса является содержание используемой в нем информации. С некоторой долей условности можно выделить три вида информации, циркулирующей в криминологическом дискурсе. Это обеспечивающая нужды самой криминологии информация, включающая обсуждение понятий, системы науки, ее природы и проч. Далее, это сигнально-оценочная информация общего характера. Наконец, регулятивная информация, которая может быть использована в реальном процессе воздействия на преступность.
Анализ буквально десятков учебников, монографий, журнальных публикаций позволяет очень осторожно указать на то, что криминологические тексты преимущественно носят понятийно-разоблачительный характер и, строго говоря, не могут быть использованы при разработке мер уголовной политики и в правотворческом процессе.
Это опасно в практическом плане, поскольку отдельные граждане любой страны не могут улавливать в собственном опыте реальное состояние преступности и тем более адекватно оценивать иные связанные с ней явления. Оказаться потерпевшим от преступления – это всегда драма той или иной тяжести или запоминающееся приключение, но предметно уяснить рост даже убийств на 10–15 %, по существу, невозможно. Оценка преступности и связанных с нею ситуаций между тем дается через усиление страха, беспокойства, иную, чаще всего эмоционально окрашенную, информацию. Например, в одной из работ говорится, что социально-бюджетная сфера оказалась в годы реформ наименее защищенной от криминальных посягательств. Возможно. Но подтверждений нет. В результате громкие заявления o криминальной пораженности, криминальном государстве, пораженческие оценки состояния экономики нимало не способствуют выбору рациональных мер борьбы с преступностью и лишь подрывают доверие к публичной власти в целом и правоохранительным органам в частности. Такое положение имеет объективные и субъективные корни.
Здесь есть по меньшей мере две весьма острые проблемные ситуации. Объективными корнями, или, точнее, объективно-субъективными корнями, неудовлетворительного состояния криминологического дискурса являются реальные трудности доступа к криминологически значимой эмпирической информации и еще большие трудности перевода ее в ранг научного знания, способного порождать новую, регулятивную информацию и быть критерием ее оценки. В результате анализ материалов правоохранительных органов вынужденно заменяется, и это в лучшем случае, анализом уголовной статистики и проведением многочисленных опросов граждан. Опрошенные лица передают, как правило, свое, ранее сформированное прессой, эмоциональное отношение к коррупции, к воровству во власти и иным подобным явлениям. Это отношение нередко подается как эмпирические данные о реальном состоянии того или иного элемента преступности. Таким образом, что широко известно, трудно формировать прогностическую информацию, которая только и необходима для управленческих решений в форме закона или в любой иной форме. Проблема эта не только российская. Сейчас можно утверждать, что ознакомление с работами по криминологии, во всяком случае, издаваемыми в европейских странах, не дает существенной прибавки криминологической информации, хотя бы пригодной для того, чтобы подвергнуть проводимую уголовную политику критическому анализу. Чисто субъективными корнями можно считать установки на искажение информации. Такие вещи характерны, по мнению, например, патриарха американской экономической науки Гелбрейта, и для экономического дискурса, тесно связанного с анализом преступности в крупных корпорациях[36]. Искажения информации чаще всего состоят либо в преувеличении значения тех или иных факторов преступности или опасности самой преступности, либо в преувеличении успехов борьбы с ней. Но, разумеется, здесь возможны и иные информационные деформации, относящиеся к личности преступников, и проч.
Цели искажения информации могут быть, в частности, политическими, когда, например, преувеличение угрозы преступности заставляет смириться с ограничениями прав граждан, организационными, поскольку очень часто возникает стремление к получению дополнительных финансовых, кадровых и иных ресурсов. Они могут состоять в стремлении «сбыть», «внедрить», опубликовать информацию, придав ей элементы сенсационности, чтобы заинтересовать адресата, довольно эффективно сосредоточивая внимание на разворовывании, произволе начальства и проч.
Закрытость дискурса. Участие специалистов в криминологическом дискурсе лимитировано их статусами и издательскими возможностями, причем последние сильно влияют на подачу информации. Хуже, однако, обстоит дело с адресатами дискурса – гражданами страны. Связанные с этим трудности привели в свое время к возникновению понятия «молчаливое большинство». Вероятно, немыслимо добиться равного участия членов общества в общественном, а тем более – в криминологическом дискурсе. Поэтому именно криминология могла бы отразить мнения и суждения отдельных лиц по проблемам преступности. Однако делает она это только в суммированном виде, как некое мнение большинства или меньшинства, что означает, строго говоря, все же пассивное участие в дискурсе. Сейчас можно в рамках криминологии поставить вопрос о расширении возможности рационального и плодотворного доступа к дискурсу через современные средства коммуникации, прежде всего Интернет, а также о необходимости учета неравенства участников дискурса как деформирующего информацию фактора. Но, быть может, еще более важно обеспечить участие в криминологическом дискурсе представителей иных специальностей: экономистов, социологов, управленцев, выразителей различных социально-экономических взглядов и подходов, членов различных социальных групп. Это сложная проблема, но достаточно сказать, что в систематических работах по криминологии нет никаких данных об упомянутых выше работах, содержащих данные о преступности, выполненных в рамках направлений «право и экономика», «конституционная экономика», «экономическая социология» и проч.
Соблюдение процедур дискурса. По своей природе дискурс предполагает свободные высказывания, т. е., как подчеркивается Ю. Хабермасом и многими другими исследователями, свобода состоит в независимости от принуждения в процессе коммуникации. Разумеется, полная свобода и невозможна, и вряд ли нужна. Действительная проблема связана с экономией труда, приводящей к отказу от необходимой аргументации. Участник дискурса высказывает свои предположения, рассчитывая, хоть и не всегда, на то, что ими будут руководствоваться адресаты. Отсюда наряду с доступом к дискурсу важнейшими процедурами можно считать приемы аргументации суждений, их включения в дискурс, т. е. надлежащего толкования и учета. Такого рода проблематика обсуждается социологами, но, вероятно, необходимо в большей степени учитывать взаимовлияние культур, специфику языка участников дискурса, частые расхождения между мыслительными и нарративными процессами.
Некоторые выводы. В данном случае можно указать на несколько обстоятельств, имея в виду, что эта проблема заслуживает специального внимания. Прежде всего следует признать, что криминология и смежные с нею отрасли социологии на современном этапе общественного развития по тем или иным причинам не могут, хотя и должны, обеспечить общество надлежащей информацией о преступности и сопровождающих ее процессах. Можно полагать, что это объясняется ограниченными возможностями отражения реальных и виртуальных процессов, быстрыми изменениями в обществе, в ряде случаев приводящими к аномии, и неразвитостью интеллектуальных рецепторов современной криминологии. Далее, следует в целом переоценить роль позитивистского подхода к пониманию причинности, рассматривая контекст преступности как своеобразный рынок поведенческих решений, реализация которых в наибольшей степени определяется информацией, имеющейся у субъектов социального действия. Это проявилось, в частности, в том, что в совершение преступлений включилось в последние годы значительное количество лиц, ранее рассматривавшихся как достаточно социализированные. В связи с этим криминология должна расцениваться лишь как один из социальных институтов, обеспечивающих понимание преступности.
Наконец, следует полагать, что в рамках самой криминологии необходимо обеспечить ее адаптацию к новейшим социальным процессам, с одной стороны, и к более корректному подходу к своим возможностям – с другой. В частности, необходимо уделить большее внимание верификации эмпирических данных о статически зафиксированных фактах, перейти к динамическому анализу поведенческих процессов, найти способы преобразования информации в воспринимаемую различными социальными группами форму и попытаться разработать в меру своих возможностей процедуры осуществления социального дискурса о преступности и использования его результатов.
Кажется необходимым обдумать этику критических суждений, нередко отражающих ничем не подтверждаемые мнения исследователей и, скорее, имитирующие практическую направленность криминологии, чем реализующие ее. Главное – он состоит в том, чтобы «мнение народное» реально побуждало к эффективному преодолению преступности и определяло профессиональную работу криминологов.
32
См. об этом: Жалинский А.Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. М.: Наука, 1989.
33
См.: Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М.: ГУ ВШЭ, 2003; Клямкин И., Тимофеев Л. Теневая экономика России. Экономико-социологическое исследование. М.: РГГУ; Центр по изучению нелегальной экономической деятельности, 2000; Познер Р. Экономический анализ права. В 2 т. СПб., 2004; Правовая реформа, судебная реформа и конституционная экономика / сост. Н.Д. Баренбойм. М.: Издание г-на Тихомирова, 2004; Радаев В.В. Экономическая социология. М.: ГУ ВШЭ, 2005 и др.
34
Вполне естественно, что, как пишет А.И. Долгова, «криминологам в процессе всего развития науки приходится постоянно доказывать ее ценность, необходимость, самостоятельность как отрасли, предполагающей наличие специалистов-профессионалов. Это происходит в дискуссиях с представителями уголовного права, социологами и другими специалистами» (см.: Криминология / под ред. А.И. Долговой. 3-е изд. М.: Норма, 2005. С. 4). Задача состоит в признании того, что население, народ являются помощником власти и ее единственным источником, и народ вправе контролировать оплачиваемый им процесс получения и переработки нужной ему информации.
35
Здесь и ниже осознанно не даются ссылки на отдельные работы, а результаты проведенного исследования излагаются и в самом общем виде оцениваются как предварительные.
36
См.: Galbrait J.K. Die ekonomie des unschuldigen Betrugs. München: Siedler Verlag, 2004 (Гэлбрейт Дж. К. Экономия невиновного обмана. Мюнхен: Зидлер, 2004).