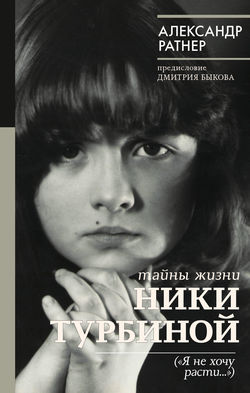Читать книгу Тайны жизни Ники Турбиной («Я не хочу расти…) - Александр Ратнер - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
«Но трудно мне дышать без слов…»
Глава 5
«Сердце свое в камне оставь!»
ОглавлениеИз рассказа Людмилы Карповой: «Мой муж, Анатолий Никаноркин, очень любил Владимира Луговского как поэта, но не был с ним знаком. Летом 1949 года Луговской приехал в Ялту, и Никаноркин, мечтавший с ним познакомиться, нашел его в маленькой комнатке – бóльшая ему была не по карману. На жилье его устроила знакомая блондинка, работавшая парикмахершей. Он мог прийти к ней стричься и читать стихи, говорил, что их надо проверять на простых людях. Думаю, что жил он в частном секторе, а не в Доме творчества, потому что не был на фронте, и это ему вменяли в вину». На самом деле находиться во время войны в тылу его вынудила тяжелая травма. Он мучительно переживал свою немощность, был подавлен, печален. И, однако же, именно в те трудные годы он задумал и начал одну из своих главных книг – «Середина века», первые строфы которой родились весной 1943 года. Спустя двадцать лет Никаноркин в рассказе «Слово о Луговском» описал свою первую встречу с ним[57]».
«Когда Никаноркин нашел Луговского, – продолжала Карпова, – тот был в депрессии. Никаноркин начал его лечить, бегал по аптекам, и Луговской проникся к нему симпатией. Года два-три он приезжал без гражданской жены Майи. Останавливался уже в Доме творчества писателей или гостинице. Он был очень красив, мягок, интеллигентен, великолепен, всегда в сером в клеточку костюме. К сожалению, Луговской сильно пил, и это отразилось на его здоровье. Владимир Александрович всегда был “под мухой”, но язык у него не заплетался. Однажды он спросил у меня: “Людмила, почему вы меня борщом не угощаете?” Я ответила вопросом на вопрос: “Разве такие великие поэты едят борщ?”
В последний год жизни Луговской приезжает с женой, часто бывают у нас, разъезжают по Крыму с Никаноркиным. Престиж Луговского к тому времени неизменно возрос, но сердце держалось на честном слове. Луговские поселились в гостинице “Южная”. Как-то я была у них в номере, и Владимир Александрович сказал: “Я вчера написал стихотворение и хочу, чтобы вы его послушали. Самые лучшие стихи приходят ко мне во сне”. И начал читать стихотворение “Костры”:
Пощади мое сердце
И волю мою
Укрепи,
Потому что
Мне снятся костры
В запорожской весенней степи.
Слышу – кони храпят,
Слышу запах
Горячих коней,
Слышу давние песни
Вовек неутраченных
Дней…
“Вы первая слышите это стихотворение”, – сказал Луговской. Я была восхищена и перед ним благоговела больше, чем перед Твардовским. Луговские отсылают это стихотворение в “Правду”, и через неделю его печатают. Он был счастлив.
В Ялте Луговские жили месяц. И вдруг Майя Луговская сообщает, что ему плохо, он выпил и лежит. Я пришла к ним, она плачет. Я села около его кровати, он тоже плачет и говорит мне: “Людмила, я так не хочу умирать”. Тогда я ему сказала: “Вы такой молодой, красивый, я бы в Вас влюбилась”. А он: “Да что вы, я старик. Ялта – мамочка моя, Крым – волшебная земля. Я рад, что умираю в Ялте. Цените Крым, такой земли на земном шаре нет”.
Майя Луговская переживает, а ночью прибегает к нам и сообщает, что он умер. Мы бежим в гостиницу, заходим в номер – там много цветов. Был такой скульптор Миронов. Майя привела его, и он сделал посмертную маску Луговского, копия которой хранится у меня дома. Луговская плачет и, зная, что муж бесконечно любил Крым, отважилась на небывалый поступок: отвозит тело покойного в морг и там договаривается, чтобы у него вырезали сердце, которое решила похоронить на территории Дома творчества, возле скалы (“Там у скалы, где молодость моя…”). Она купила кувшин и положила в него сердце Луговского. Днем выбрала место для захоронения, а я нашла лопату. В темноте, при свечах, мы закапываем драгоценный кувшин. Луговская до двух часов ночи читает стихи Владимира Александровича. Мы оставляем свечу, идем к скамейке Луговского, на которой он любил сидеть, и танцуем под луной.
Майя заказала цинковый гроб, чтобы везти Луговского в Москву. В Ялте рядом с собором Александра Невского находился Дом учителя. Там, в холле на втором этаже, был выставлен этот гроб, причем он был открыт. Майя была с сестрой Анной Леонидовной. Потом Луговского увезли в Москву, где похоронили на Новодевичьем кладбище.
Благодарю Господа за общение с великим поэтом, я будто выросла от этого. До сих пор вспоминаю последние минуты его жизни. Он плакал, слезы лились ручьем и переходили в рыдание. Вошла жена, Луговской притих, помолодел, глаза стали светлыми. Сейчас, в 84 года, мне он кажется юным: ему тогда было 56 лет. Как он хотел жить!»
Скала, возле которой похоронено сердце поэта, получила название скалы Луговского. На ней был установлен его бронзовый барельеф, который открывал Никаноркин вместе с Майей Луговской. Когда началась перестройка, барельеф украли, но родные Ники все равно туда ходили и повторяли прежний ритуал.
А я вспомнил, как летом 2003 года мы с женой Мариной и сыном Аркадием усадили в машину Карпову и Леру Загудаеву и поехали к скале Луговского, зажгли там пять свечей – по одной от каждого из нас, вспоминали поэта, а Карпова читала его стихи. Опустившаяся на Ялту ночь придавала таинство нашему ритуалу. Мне тогда казалось, что я ощущаю несильные и равномерные толчки из-под земли, словно это бьется сердце Владимира Луговского. Время перевалило за полночь, наступила Троица. Господь был с нами.
«Когда Луговской умер, – рассказывала Карпова, – Елена Леонидовна уже была элитной столичной дамой и относилась ко мне, как к жене провинциального поэта, но в каждый свой приезд в Ялту – а приезжала она дважды в год – мы виделись и тепло общались. Более того, Луговская сыграла определенную роль в судьбе моей дочери и внучки. Наверное, поэтому Ника, хотя Луговской у нас не ходил в любимых поэтах, посвятила ему стихотворение “Море гудит, море шумит…”.
Владимир Луговской еще приучил нас слушать пение соловьев в Алупкинском парке, куда мы с ним и с Никаноркиным ездили несколько раз. Когда он умер, его жена продолжала все его традиции. Она была инициатором одной из таких поездок. Выезжать надо было в 12 часов ночи, поэтому Луговская заказала такси. Ехали она, я, Никаноркин, Майя и Ника, которая напросилась, хотя время было позднее. Ехали по нижней дороге мимо Ласточкиного гнезда и санаториев. Стояла лунная ночь, луна просвечивала сквозь ветки сосен, и над всем этим, как старинный замок, поднималась Ай-Петри. И вдруг эту тишину прервали густые соловьиные трели. Мы визжали от радости и тут же успокаивали друг друга, чтобы не вспугнуть соловьев. Луговская читала стихи двух Владимиров – Луговского и Соколова[58], зажигала свечи и пела церковную песню. Все это было волшебно, прекрасно.
Когда мы приехали домой, Ника пошла в кухню, в три часа ночи вышла к нам, сказала, что хочет прочитать стихотворение, и прочитала:
Заслоню плечом тяжесть дня
И оставлю вам соловья.
И оставлю вам только ночь,
Чем могу я еще помочь?
А хотите, я сердце отдам —
Пусть судьба моя пополам…
Луговская не могла поверить. Это было удивление: как Ника все так повернула, будто что-то щелкнуло в ее голове».
Дополню рассказ Карповой воспоминаниями Майи Никаноркиной: «Никогда не забуду: Я мелкая совсем, к нам приходит Твардовский, и меня заставляли читать стихотворение: “Рожь, рожь, дорога полевая/ Ведет неведомо куда…” Дальше не помню. И Луговской, который всегда приезжал с женой, когда поют соловьи. У нас это март-апрель. Тепло, миндаль цветет. И я помню, тогда соплюха, иду со всеми посмотреть на эту скалу. Иду и, естественно, плачу – устала. Луговской тогда написал такое стихотворение: “Девочке медведя подарили, / Он уселся, плюшевый, большой, / Чуть покрытый магазинной пылью, / Важный зверь с полночною душой”. Когда в 1957 году умер Луговской, Елена Леонидовна ежегодно приезжала на Новый год в Ялту. Это был великий праздник для нас. Нюрка маленькая, и мы с ней и Златкой – все радуемся несказанно».
Я попросил Людмилу Владимировну описать Майю Луговскую. Воспроизвожу ее словесный портрет. «Крупная, высокая, грудь стоячая, талия узкая, ноги длинные, щиколотка, как у арабской лошади, страстный рот, светлые глаза почти без ресниц; она всегда ярко красила губы. Необыкновенная женщина, с Луговским у нее брак не был зарегистрирован, его как-то оформили после его смерти».
Хочу привести слова самой Майи Луговской о Нике, которую она называла «ялтинским чудом»:
Выступаю как свидетель и очевидец. Нику Турбину я знаю с самого рождения. Сейчас ей уже восемь лет, и она учится в первом классе. Каждый год, проводя зиму в Ялте, я имею возможность наблюдать за ней. Стихи она стала сочинять, еще не зная букв, ей не было пяти, просыпалась, произносила их вслух, требуя, чтобы мама ее их записывала. В семье Ники, где чтят искусство, любят и знают поэзию, первые ее строки были встречены с опасением, удивлением и бережливостью. Поэтические медитации Ники не прекращались. Стихи рождаются непрестанно, сейчас их уже хватит на объемистый сборник.
Ника много болеет и потому часто бывает лишена детского общества. Во всем же остальном она обычный ребенок, шаловливый и добрый, любознательный и веселый. Феномен, который представляет творчество Ники Турбиной, станет еще одной загадкой для ученых. Между тем, трудно усомниться, что ее стихи – чистейшая поэзия. У Владимира Даля есть такое толкование слова поэзия: – соединение добра (любви) и истины. Думается, что это определение больше всего подходит для стихов Ники.
Вместе с тем, когда Луговская столкнулась с Никой ближе (она с Майей жила у нее в Москве), то перестала верить в то, что Ника пишет стихи. Очевидно, какие-то основания для этого у нее были.
57
Никаноркин А.И. Крымские этюды: Рассказы, очерки, повесть. – Симферополь: Таврия, 1979. – 208 с., ил.
58
Соколов В. Н. (1928–1997), русский поэт.