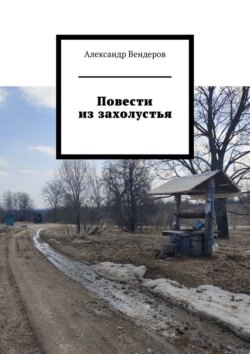Читать книгу Повести из захолустья - Александр Вендеров - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Глава 8. Земля предков
ОглавлениеНад Сулидами проходила авиационная трасса из Москвы на запад. Самолёты пролетали над самой деревней, и до пандемии их было много. Не успеет на головокружительной высоте растаять след, оставленный двигателями одного аэроплана, как опять слышен наверху шум: это к Сулидам подлетает следующий борт. А теперь почти не видно самолётов в воздухе. Оно и понятно: планета Земля закрылась на карантин. Но время от времени Алеся слышала там, высоко-высоко в синем небе, знакомый с детства гул реактивных двигателей. Удивительно даже: самолёт находится на высоте в десять – одиннадцать километров, а его слышно! И куда они летят сейчас, в это тревожное время?
Как-то раз никто из молодых друзей вечером не пошёл гулять: Витя уехал на службу, Денис отправился к подруге в райцентр, а Никита устал за день в огороде. Оно и понятно: весенний день год кормит. Алеся пошла одна и пришла на склад. Вечер был холодный и звёздный. Услышав шум самолёта, Алеся решила проверить с помощью сайта Fligtradar24, куда и откуда он летит. Удобную вещь придумали люди!
Зашла на сайт. На дисплее возникла карта окрестностей Лондона. Непорядок, надо свою землю найти. Вот теперь, когда приблизила карту, Алеся видела и Сулиды, изображённые на ней, и сам борт. Это казался Ан-124 российской авиакомпании, вылетевший из Zhenzhou. Что за город такой? Помогли Гугл карты и Википедия: оказалось, что это город Чжэнчжоу в Китае. Большой город, 7 млн человек, а Алеся о нём даже не слышала. А вот конечная точка маршрута, которую на этом сайте обычно сразу указывают, на сей раз отсутствовала. Интересно, надо проследить. Самолёт наш, но он же всю Россию пролетел и продолжает путь. Да и какой самолёт – Ан-124 «Руслан»! Грузовой, и груза на нём можно увезти очень много. Может, в Калининград полетел?
Самолёт приземлился через полчаса в Каунасе. Интересно, что в разгар мировой эпидемии можно везти огромным грузовым самолётом из Китая в Литву? Этого наверняка не узнать, однако Алеся подумала, что, скорее всего, там или медикаменты, или медицинское оборудование. Китай с этой заразой справляется лучше, чем все остальные.
Назавтра в середине дня пришёл Витя. Он уже вернулся со смены и выспался. Теперь он на месяц, до двадцать четвёртого мая, вольный человек: удалось даже в такое непростое для стражей порядка время получить отпуск.
– Пойдёшь прогуляться?
– Да, пойду. А куда?
– Пойдём в Рамешки через лес. За склад и к рамешковской плотине.
Пошли к складу, а оттуда по заросшей тракторной дороге в сторону кузницы. Там, где она когда-то стояла, не было видно даже фундамента: всё заросло высокой травой. Метрах в пятидесяти от бывшей кузницы увидели стоящие в ряд три высокие ёлки, между которыми ещё можно было разглядеть старую колючую проволоку.
– Витя, а это зачем?
– Так тут огороды были картофельные, а лес рядом. Мама говорит, что колючку от кабанов натягивали.
– Это да, нужно. Кабан – такая зверюшка, что все плоды рук человеческих слопает.
Спустились вниз и увидели широкий и глубокий ручей. Алеся помнила его из юности, и тогда это был маленький ручеёк, а сейчас – на тебе! Бобры построили запруду выше по течению, оттого уровень воды поднялся. Как перебираться? Прыгать боязно: искупаешься в холодной воде. Двадцать пятого апреля открывать купальный сезон рановато. Витя подобрал две длинные чурки от стволов ольхи, изгрызенных бобрами.
– Вот и мост. Смелей, Алеся Николавна!
– Только ты меня страхуй. Не каждый день случается по таким мостам речки переходить.
На том берегу Витя включил в телефоне Михаила Круга, чем немало удивил Алесю. Человека нет уже восемнадцать лет, а его творчество живёт. Более того: песни Михаила Владимировича слушают люди, которые были совсем маленькими, когда он погиб. Жива память об этом барде, как и о Высоцком.
Знакомый баритон пел «Осенний дождь», а Витя с Алесей свернули с заросшей дороги в лес – точнее, в еловую посадку, которую сорок лет назад сажал дед Матвей Тарасов. Ёлки стояли ровными рядами, что сразу же выдавало рукотворное происхождение этого леса. Странное дело: Алеся, прожив в деревне много лет, здесь ни разу не была. Но леса в Сулидах сажал дед Матвей, и сейчас это воспоминание пришло к Алесе. У Матвея Тарасова был трелёвочный трактор «Онежец», жена Алла и сын Паша. Были и другие дети, но именно о Павле она решила спросить Витю.
– Витя, а ты что-нибудь о деде Матвее знаешь?
– Почти ничего: я ведь его не застал.
– Моя бабушка с его женой дружила, с бабой Аллой. У них было четверо детей. Трое нормальные, а младший, Павел, был юродивым.
– Как это – юродивым? – не понял Витя.
– Умственно отсталым. Конечно, церковь по-другому определяет юродство как явление, но так у нас в деревне его называли. Паша юродивый, мол, пошёл.
– Мне мама говорила, что был у нас такой. И что у него любимое выражение было «селёдка тухлая».
– Причём он не все буквы выговаривал, и вместо «селёдка» говорил «телёдка тухлая». А ещё «падла тухлая», «рыбка яра», «чёрт коряга» и «хток маяйткий». Это он так на отца ругался.
– Почему ругался на отца?
– А тот его обижал, особенно как напьётся. Дурак, полоумный и всё в таком духе. А он хоть и с отклонениями, а всё равно живой человек. А, вот ещё вспомнила его фразу «шпроты занюханные японские». Он думал, что «японский» – это ругательство.
– А давно он умер?
– В девяносто восьмом от цирроза. Ему тридцать пять лет было. И ведь совсем не пил!
– Почему же тогда цирроз?
– Думаю, что образ их питания. Всё время держали скотину. И как свинью или овцу зарежут, сразу принимались есть жирное мясо, да помногу. А печень такого не любит. И ты знаешь, Паша несчастным человеком был. Дома отец унижает, да и мы, дети, над ним смеялись. Дети – они ведь жестокие, не понимают. Сейчас мне стыдно за те детские шалости.
С гнезда на земле взлетела вспугнутая птица, и её разглядеть не удалось. Алеся и Витя подошли к гнезду – в нём лежали четыре яйца размером с куриные, но в крапинку.
– Давай отойдём, а то птица может не вернуться, – сказал Витя.
Шли через посадку дальше. Вот блиндажи времён войны, уже сильно заросшие за прошедшие десятилетия, но ещё хорошо различимые. А здесь кабаны лежали и выкапывали из земли съедобные корешки. Витя спросил:
– А ты Юру Стаса помнишь?
Конечно, Алеся помнила Юру Стаса. Это легендарная личность в Сулидах. Он тоже юродивый, но если Паша Тарасов часто бывал злым, агрессивным, то Юра Стас добрый и всегда на позитиве. Вот только говорить он почти не мог – лишь некоторые слова произносил, да и то невнятно. И всегда волновался, когда по дороге ехал автомобиль. Кричит, бывало, «махына, махына» и отгоняет с проезжей части играющих детей. Может быть, в молодые годы видел, как кто-то под машину попал? И такое возможно, только теперь точно уже никто не скажет.
– Юра Стас жив? Много лет его не видела.
– Жив, но его парализовало совсем. Лежит в памперсах и совсем не говорит.
– А с кем он живёт?
– Со своей сестрой, а на зиму они в Ярцево уезжают, у них там квартира. Сейчас они уже приехали в деревню.
– Ты его видел в этом году?
– Я не видел, а мой брат Степан к Юре в гости ходил. Они ведь хорошо общались. Говорил, что узнать-то он его узнал, это по глазам было видно, но сказать ничего не смог.
Вышли из посадки на поляну. После темноты рукотворного ельника особенно ярко бросилась в глаза залитая солнцем весенняя, ещё изумрудно-зелёная трава. Западный конец поляны выше, и там Семёнов построил одну из двух своих ферм – ту самую, на которой Андрей-десантник хочет гусей разводить. А восточный конец, тот, который ниже, примыкает к рамешковской плотине. Вот и водоём для гусей!
– Смотри, Алеся, десантник на ферму рабочих привёз. Что-то делать начали. И Денис там сегодня калымит.
– Денис вообще молодец! Всюду заработок себе найдёт. И с головой парень, и с руками.
– Хитрый только. Бывает, есть калым, я свободен, а меня не позовёт.
– Не без этого. А я сейчас вообще о другом подумала: был Андрей десантником, а становится гусятником!
– А он и платную рыбалку хотел на этой плотине сделать. Вот только клиентов откуда брать здесь? Ведь что Рамешки, что Сулиды в турлах находятся.
Плотина в Рамешках метров триста в длину. Когда проходили по земляной насыпи, увидели в середине водоёма голову какого-то животного – то ли бобра, то ли выдры. Вот и проснулась природа! Людям нынче тревожно – это да, а биосфера без людей отдыхает. Тут, в глуши, конечно, никто не изолируется, а в городах это заметно хорошо. Алеся вспомнила, как в 1996 году плотину то ли взорвали, то ли раскопали браконьеры, и пока вода выходила из водоёма, растянули сети и ловили рыбу. После этакой варварской акции лет десять здесь вместо полноводного пруда была маленькая зловонная лужа. Потом уж запрудили снова. Витя этой истории не знал, и Алеся была первой, от кого он об этом услышал.
Рамешки – историческая родина Алеси. Бабушка Вера и дедушка Иван, родители мамы, сюда приехали из Юрович в середине прошлого века, а родители отца и их родители, деды и прадеды родом именно из этой деревни. Многие поколения предков жили здесь. Да и Юровичи, хоть и в соседней стране, а вот же они, рядом. Отсюда всего одиннадцать километров. Алеся поймала себя на мысли, что, прожив почти месяц на родине, ни разу не побывала на кладбище. Нехорошо это. Надо съездить завтра.
Витя и Алеся входили в Рамешки с юга. Дорога представляла собой просёлок, наезженный машинами и квадроциклами рыбаков, которые едут на плотину. Весна была хотя и ранней, но затяжной, и теперь, в конце апреля, по обе стороны от дороги была видна только прошлогодняя пожухлая трава, а новая вырасти ещё не успела. Да и нежарко сегодня. Только что светило солнце, а вот поди ж ты – небо затянуло свинцово-серыми облаками.
– Витя, а ты не знаешь, сколько жилых домов в Рамешках осталось? В которых зимуют.
– Пять, если не ошибаюсь. Три здесь, на Больших Рамешках, и ещё два на Заречине.
– Надо же, Заречина… Вспомнила это название. Это там, по ту сторону ручья, что в плотину впадает, – Алеся показала рукой. – А остальные дома?
– Некоторые совсем брошенные, но больше таких, что в них на лето дачники приезжают.
– А сейчас дачников, видать, много, как и в Сулидах. От короны в деревни эвакуировались.
У дороги стояли две огромные раскидистые липы. Стволы ещё совсем чёрные, даже почек не видно. Этим липам никак не меньше двухсот лет – значит, они росли здесь во времена войны с Наполеоном. Алеся и думать о липах на околице Рамешек давно забыла бы, но всякий раз, когда она в книге читала описание могучих деревьев, в памяти всплывало именно это место.
Дорога, теперь уже грунтовая, шла в гору. На улице пока никого не встретили. А вот заброшенный магазин, и отсюда начинается асфальт. Кто же торговал в магазине и когда его закрыли? И память снова подсказала: продавщицей была баба Наташа Шурыгина. В девяносто первом году, когда в Рамешках асфальтировали дорогу, магазин ещё работал. Через год или через два, когда постоянных жителей в деревне стало совсем мало, его закрыли, и тогда сюда стала ездить автолавка.
– Витя, это место раньше называлось Прогоном. Коров здесь на пастбище гнали из деревни. И тут до войны случилась такая история. Мне бабушка говорила, а ей кто-то ещё рассказал. Где-то здесь, совсем рядом, жил кузнец. Жил бедно, а любил показать, что не нуждается и живёт хорошо. И как-то раз зовут его мужики на сход работников колхоза «Свобода», как раз на этом месте и собирались. И он перед выходом помазал усы куском сала. Подходит к товарищам и говорит: «Ох ты, чёрт побери, сальца поел. Вкусно»!
Ну стоят, обсуждают рабочие вопросы. А его сын выходит из дома и кричит: «Тятя! Кот сало съел, что ты усы мазал»!
– Колхоз «Свобода»?
– Да. Название было, а свободы не было.
– Жёсткие времена были! А как у нас в Сулидах колхоз назывался?
– А у нас был колхоз имени Сталина. Это уж потом, в шестидесятые, окрестные колхозы в один совхоз объединили.
– Смотри, Алеся, тогда тут народу хватало на целый колхоз! Твои родственники когда отсюда уехали?
– В семьдесят седьмом бабушка дом в Сулидах купила. Дедушка Ваня к этому времени умер уже. Мы сейчас идём к тому месту, где их хата стояла.
Алеся всю дорогу от Сулид фотографировала на телефон. Сначала ручей с бобровой запрудой, потом посадку деда Матвея, плотину, а сейчас и Рамешки. Витя спросил:
– Что с фотками делать будешь?
– Закину их в облако, чтобы маме показать. Ссылку отправлю. Её родная деревня ведь.
– Да ты и Сулиды, я смотрю, сфотографировала с разных сторон.
– Конечно! Это уже моя родная деревня.
– А как в августе оформишь наследство, ты дом будешь продавать или сама жить?
– Продам. Егор уже дал понять, что купить хочет. А я не чувствую себя здесь дома, хотя воспоминаний, казалось бы, угасших много пришло, когда на землю предков вернулась.
– Правда дома себя тут не чувствуешь? Выросла здесь всё-таки.
– Выросла – это да, но мой дом давно уже в Петербурге, и я сейчас скучаю по этому городу. Как ограничения снимут, поеду домой. Карантин – возможность перезагрузиться, и я рада, что вышло именно так. А ты хочешь остаться на ПМЖ в деревне?
– Вряд ли. Это сейчас у меня жилья в городе нет – вот и езжу туда-сюда. А как будет возможность, уеду. Хотя меня тянет в деревню, как и тебя в город, если долго не был.
Они прошли почти всю деревню и подошли к трём липам, высаженным в ряд. Надо же, и здесь липы… Не задумывалась, не обращала раньше внимание, что это такое распространённое в Рамешках дерево. На этом месте когда-то стоял дом бабушки и мамы, но сама Алеся в Рамешках никогда не жила. Бывала в школьные годы часто, но бывать – совсем не то же, что жить постоянно. Отсюда до северного края деревни рукой подать. А там, за околицей, гора Жуковка. С неё в мамином детстве, в шестидесятые годы, дети на лыжах и санках катались.
– Витя, а где же люди? – спросила Алеся, когда дошли до крайнего дома, откуда открывалась панорама Жуковки и брошенных совхозных полей, зарастающих лесом. – Пока мы прошли по Рамешкам из конца в конец, я заметила машин десять, если не больше. Дачники здесь самоизоляцию пережидают, но по улицам не ходят.
– А все, наверное, в телефонах сидят – и родители, и дети. Пойдём на Заречину – может, там кого увидим.
На Заречине действительно встретили живую душу. Точнее, целых четыре живые души: пожилую женщину лет семидесяти, даму средних лет, постарше Алеси, а ещё юношу и девочку-подростка. Оказалось, что это татарская семья из Москвы. Приехали в деревню, как и Алеся, в конце марта, с тех пор так здесь и живут. Познакомились, разговорились. Пожилая женщина представилась как Зоя Константиновна. А рядом с ней её невестка Ирина и внуки Тимур и Алина.
Алеся подумала, что вряд ли собеседницы на самом деле Зоя Константиновна и Ирина: люди из мусульманских народов, живущие в русском окружении, часто называют себя русскими именами. Вероятно, потому, что их истинные имена русские забывают или коверкают. Но как они представились, так и нужно называть. Это уважение к человеку.
– Живём здесь, как на необитаемом острове уже месяц. Дом на отшибе стоит, – сказала Ирина. – А вы тут давно?
– Я местный, – ответил Витя, – а Алеся тоже в марте из Питера приехала.
– А мы вот москвичи. Далеко, конечно, забрались. Зато тихо и спокойно.
– У вас в Москве вообще что-то невероятное с этой эпидемией творится, – заметила Алеся.
– Там без пропуска на улицу не выйдешь, а я спать не могу, если не погуляю, – ответила Зоя Константиновна. – Да и заразиться боюсь этим вирусом. В моём возрасте опасно.
– Скажите, может, вы знаете: мне вот бабая3 надо отвезти в поликлинику, на сердце жалуется. А можно пожилым людям куда-нибудь выезжать? – задал вопрос Тимур.
– В поликлинику, конечно, можно, – сказал Витя. – Я сам в Росгвардии служу, знаю точно. Поезжайте в райцентр.
– У вас и бабай здесь? – поинтересовалась Алеся. И тут же добавила: «Раз сердце, то ехать, конечно, надо к врачу, и чем скорее, тем лучше».
– Мы всей семьёй. Но скучно! А дедушка отдыхает сейчас, – вставила свои пять копеек Алина.
Беседа переместилась за стол. Конечно, сыграло роль и традиционное татарское гостеприимство, но до чего же бывают рады хорошие, добрые люди встретить себе подобных после месяца отшельничества! Хозяева, как оказалось, родились уже в Москве, даже Зоя Константиновна. Её родители родом из Нижегородской области, переехали в столицу после войны. Алеся спросила:
– Зоя Константиновна, а вы в семье по-татарски говорите?
– Нет. Я почти не помню языка, а когда-то неплохо знала. Дети мои – те и не знали никогда. Но мы помним о своих корнях, и мы мусульмане.
Возвращались домой уже под вечер. По пути зашли на родник у дома бабы Наташи Шурыгиной, которая некогда в магазине работала. Дом стоял закрытый: хозяйка давно умерла, а дети, видать, приезжали сюда нечасто. Над родником возвышался деревянный сруб, отчего этот источник внешне не был отличим от обычного колодца. Вода оказалась затхлой, с сильным запахом тины: родником давно никто не пользовался.
– Ну вот и попили… Жаль, конечно. А ты знаешь, Витя, эти Шурыгины всё время запрещали посторонним пользоваться источником. А того не могли взять в толк, что чем чаще пользуешься колодцем, тем вода в нём лучше!
– А почему запрещали? Может, боялись, что кто-нибудь в воду нагадит? Ну, в том смысле, что испортит воду тем или иным способом.
– Кто их знает! Чужая душа – это кромешные потёмки. А родник почистить бы – снова хорошая вода будет.
– Да кто этим будет заниматься, Алеся? Тут у всех свои колодцы на участках.
В Сулиды шли уже не через лес, а по асфальтированной дороге. По левую сторону виднелась ферма Андрея-гусятника, а по правую – поле, зарастающее мелколесьем. Оно и понятно: Смоленщина находится в природной зоне смешанных лесов, а природа, если её не тревожить, всегда восстанавливается и возвращает утраченные позиции, разрушая созданное человеком.
3
Бабай – дедушка (татар.)