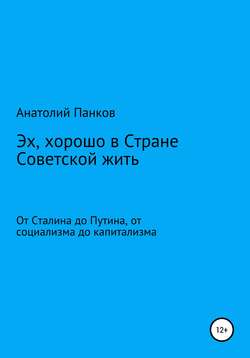Читать книгу Эх, хорошо в Стране Советской жить. От Сталина до Путина, от социализма до капитализма - Анатолий Панков - Страница 15
Семейное древо в государственной роще
Сергиевский мальчишка участвовал в парадах на Красной площади
ОглавлениеТретий, самый младший брат – Миша. Как я уже отмечал, поскольку разница между нами была всего пять лет, я никогда не звал его дядей: ну, какой дядя – если я учился в первом классе, а он в той же сельской школе – в четвёртом!? Какая перспектива была у него в сельском пространстве? Он, как старший мужчина в семье, когда уже все братья разлетелись по стране, с одиннадцати (!) лет пахал колхозную землю. Как он справлялся с плугом, можно только догадываться. И, как я уже рассказал, с помощью тёти Клавы выбрался из Сергиевки, избавился от беспросветной колхозной жизни, Он окончил военно-музыкальное училище в подмосковном посёлке Томилино. Играл на трубе. Служил в столичных Чернышёвских казармах, что возле Даниловского рынка.
Кстати, о названии казарм. Есть такая официальная версия. Красноармеец Прокопий Чернышёв стоял в казарме на посту. Случился пожар. По уставу часовой не имеет право покинуть пост без разрешения тех, кто его поставил. Он и не покинул. Его то ли забыли снять с поста, то ли опоздали, и солдатик сгорел. Его посмертно сделали героем – с 1925 года старинным казармам, построенным за шесть десятков лет до этого смертного подвига, присвоили имя стойкого красноармейца.
А стоила ли жизнь человека ради слепого исполнения правила, которое он-то строго соблюл, а вот его командиры не соблюли? Кстати, официальная пропаганда, естественно, умолчала, наказали ли кого-то из военного начальства за бессмысленно загубленную жизнь рядового Чернышёва. Впрочем, повторюсь: в советской стране жизнь человека ничего не стоила. Это потом мы узнали, что военные одной жутко капиталистической страны отдавали свою жизнь, чтобы «спасти рядового Брайана» вдали от родины. А спасти рядового Чернышёва в столичном квартале не смогли…
Со своими сослуживцами Миша, как музыкант, участвовал во всех парадах на Красной площади. Это не столько почётная обязанность, сколько адский труд. И не только подготовительный. На первомайские и ноябрьские праздники бывало холодно, даже морозно, и губы, по его рассказам, от долгого соприкосновения с металлом на холоде ломило.
Видимо, служба у него шла хорошо, коли он довольно часто бывал в увольнении, заезжал к нам в гости. Потом мы вместе пешком шли к бабушке, то есть к его маме, которая жила неподалёку от нас, у тёти Клавы на Рязанском шоссе.
Если с нашей Первой Карачаровской улицы идти без остановки, то можно было и за полчаса туда дойти. Но мы не торопились. Точнее, Миша не торопился. Он явно наслаждался не казарменной обстановкой. По дороге тогда было много ларьков, палаток. Особенно возле станции Чухлинка. И мы чуть ли не к каждой торговой точке прилипали. Пили газированную воду с сиропом, или квас, или даже пиво. Ел Миша мало. Не из-за экономии денег. Даже домашней пищи много не потреблял. Не мог потреблять. Как он шутил, желудок от военной нормы сжался.
И спиртным он не злоупотреблял: пил – лишь бы слегка расслабиться после строго регламентированной казарменной жизни. Думаю, не только из-за запрета на алкоголь (военный патруль в нашей рабочей окраине никогда не бывал, а до возвращения в часть наказуемый запах вполне мог продышаться), просто это был его принцип.
Демобилизовался Миша, как только стало возможно. Отдал долг Родине, приютившей его в тяжёлое послевоенное время на военных харчах, и вышел на гражданку. В моём дневнике за 14 декабря 1955 года есть такая запись:
«К нам приходил Миша, который демобилизовался и при помощи моей мамы у каких-то незнакомых людей прописался. Хотел устроиться на работу на ЗИС, но поступил в оркестр при каком-то заводе».
Ему тогда было всего двадцать два года! Но он уже десять лет носил воинскую форму. Почему так рано демобилизовался, я не знаю. То ли выслужил достаточный срок для демобилизации, то ли здоровье подкачало. Прописаться у «незнакомых» можно было только по особой договорённости. Как я уже отмечал, рассказывая про дядю Толю, – или за взятку, или по фиктивному (а может, и не фиктивному) браку. Впрочем, возможно, эти «незнакомые» были какими-то нашими дальними родственниками. К тому же, и такой вариант не исключаю, что прописался он не в Москве, а в ближайшем Подмосковье. А в столице снимал угол.
ЗИС – это знаменитый автозавод имени Сталина, который вскоре, после разоблачения «культа личности», получил имя Лихачёва. У этого крупнейшего в Москве предприятия была квота на иногородних работников, им предоставляли жильё, хотя бы в общежитии. Конвейерное производство – чрезвычайно тяжёлое, москвичи туда не рвались, и на конвейер набирали людей с миру по нитке. Но и это не спасло «передовое предприятие», «флагмана социалистической индустрии». Дошло до того, что туда стали направлять солдат срочной службы!
Почему Мишу не взяли, не знаю. Возможно, тогда у завода закончился лимит на приём иногородних или уже не оказалось свободных мест в общежитиях.
Но всё-таки, можно сказать, что Мише с трудовой биографией повезло. Он устроился по своей профессии – в оркестр какого-то завода. Тогда многие предприятия имели свои музыкальные коллективы, дабы они поднимали дух трудовых масс во время праздничных демонстраций. Использовали их и во время танцев на вечерах отдыха трудового коллектива, в парках. А также на проводах сотрудников в последний путь.
Довольно скоро Миша из заводского перешёл в оркестр Московского цирка. Но на основной сцене выступал не долго. Стал гастролёром. Эта гастрольная труппа была то ли при цирке, то ли при филармонии. Жить стал на чемоданах. И освоил ещё одну профессию – циркового гимнаста. Не воздушного, а обычного приземлённого – стал «поддержкой» для тонкой гимнастки Сонечки. Видимо, это оказалось вынужденной мерой: они поженились и стали вместе ездить на гастроли. Гимнастке трубач был не нужен, и кто-то должен был, изменив профессию, подстроиться к новой, семейной ситуации. Сделал это добропорядочный муж.
У них родилась Таня. Тоже дочь! Это что же за напасть такая: у всех братьев Бросалиных родились дочки?! А вот у их сестёр – сыновья! Это как же понимать генетику?
Потом Мише и Соне надоела гастролёрская «свобода», и он снова устроился в какой-то «неподвижный» оркестр. Жили они в Подмосковье, в коммунальной квартире.
Умер он молодым – от рака горла. Болезнь возникла от профессии? Скорее всего. Ведь вдыхать воздух в трубу приходилось в разных, в том числе некомфортных условиях, нередко – подолгу.
Он единственный из семейства Бросалиных хотя бы после смерти оказался рядом со своей страдалицей мамой – похоронен в одной с ней могиле на Никольском кладбище.