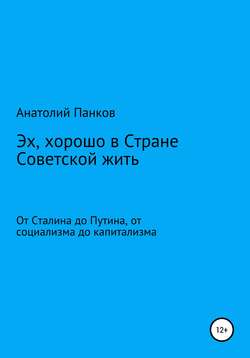Читать книгу Эх, хорошо в Стране Советской жить. От Сталина до Путина, от социализма до капитализма - Анатолий Панков - Страница 8
Семейное древо в государственной роще
За что любят бабушек
ОглавлениеЯ любил бабушку. А за что – сам не знаю. Ни за что конкретно. За многое. За то, что она была такой: заботливой, но ненавязчивой; строгой, но доброй, неграмотной, но культурной в быту – никогда не употребляла крепких выражений, никогда не кричала; была чистоплотной – насколько это возможно в деревенской избе безо всяких удобств, с земляным полом, без бани, порой и без мыла, да при таком обширном хозяйстве; никогда не видел с растрёпанными волосами – всегда причёсана и всегда в платке… Я никогда не слышал от неё упрёка, как это бывает в семьях, за то, что сижу на её шее, что ей приходится слишком много внимания уделять малолетке.
Она, в отличие от многих нынешних бабушек, не пыталась меня подкупить какими-то подарками. Да и что она могла тогда подарить? Очень редко, в соответствии с сельскими традициями, готовила что-то праздничное. Не знаю, к какому, – пекла фигурки птиц и зверушек. И в одну из них вкладывала монетку. На счастье. Разумеется, «счастье» всегда доставалась мне. К тому же бабушке было опасно нечаянно куснуть монетку – лишилась бы одного из немногих оставшихся зубов.
О её трудолюбии и говорить излишне: без этого она не выходила бы свору малых ребят, не держала бы такое разностороннее хозяйство. Просто не выжила бы.
И что особенно было ценным у неё – это отсутствие каких-либо встречных требований и жалоб при потрясающей, захватившей всю её жизнь заботе о внуках и правнуках. Я ни разу не слышал от неё жалобы, даже намёка на усталость, на чрезмерную занятость. До последнего вздоха она возилась с детишками, не щадя себя и не ожидая благодарности.
Возможно, в этом и сказалось её воспитание, точнее влияние на меня, что не «воспитывала» криком и кнутом, что не унижала будущего мужчину мелочной ежеминутной опекой и понуканием, что, несмотря на свою занятость, заботилась обо мне, что трудилась с утра до ночи не жалуясь, и своим примером меня к этому приучала…
Так сложилось в её и моей жизни: я несколько лет и зим прожил с ней в Сергиевке. Сначала – втроём, а после отъезда её младшего сына Миши в Москву, и вовсе вдвоём.
Стар и млад поддерживали друг друга в военное и послевоенное лихолетье. Трудностей было много. То не хватало топлива, то – корма для скотины, то – пропитания для нас. Иногда, чтобы продержаться до урожая, переходили на «подножный корм» – лебеду, крапиву. Ели жмых… Хотя, конечно, наше деревенское житьё не сравнить было с городским: всё-таки огород и животные спасали от голодухи.
Были и сезонные сложности. Мы вместе выживали в зимнюю стужу, когда неистовые степные ветры пронзали стены и окна своими холодными струями, пытались сорвать нашу избу с насиженного места, засыпали нас снегом так, что порой еле открывали наружную дверь. Село становилось безлюдным, собаки, налаявшись ночью, замирали, на дороге – ни следа, ни санного, ни человечьего, ни звериного, и, казалось, наша изба на окраине – одна в этом белом безмолвии.
Мы настолько привыкли к пустоте сельского пространства, что однажды я чуть не попал… под колёса грузовика.
Зимой, когда лёд на Вяжле крепчал, я часто ходил в школу прямо по реке. Так короче. И в тот изумительный зимний день – с крепким морозом и очень ярким солнцем – я отправился на занятия по этому более короткому пути. Правда, накануне выпал густой снег, и валенки вязли в пушистом ковре. Но настроение было приподнятое: вокруг всё искрилось, сверкало.
Увлечённый борьбой со снежным месивом и слепящим солнцем, я не услышал накатившего на меня сзади грузовика. Да откуда он мог взяться в нашей глуши в такую пору?
В те годы даже летом автомобиль – редкость. Скорее самолёт можно было увидеть: до Кирсанова недалеко, там была лётная часть. И, кстати, первый в жизни реактивный самолёт я увидел именно в Сергиевке. А однажды небольшой самолёт сел прямо возле деревни, на лугу. Он прилетал за больным парнем. Тогда до нас было легче добраться по воздуху, чем по земле. Так что, когда в Сергиевку впервые заехал сверкающий «Москвич», мальчишки со всего села бегали за ним, стараясь рассмотреть, а то и пощупать. Трактора видели, а легковушку – нет. Но то явление произошло сухим летом, а тут – зимой! Грузовик!
Бабушка сказала потом, что, выйдя из избы, смотрела, как я плетусь по заснеженной реке. Видела, как неожиданно мне вдогонку из-за крутого поворота выскочила тёмная громадина. По пушистой гладкой дороге автомобиль двигался почти бесшумно, к тому же мои уши были плотно закрыты шапкой, завязанной под подбородком. Я действительно не слышал грузовика, я «услышал» бабушкин сигнал об опасности. Она не кричала. Да я бы и не услышал с такого расстояния. Это был её неслышимый зов отчаяния, была мольба к небу. Я до сих пор уверен, что этот беззвучный позыв дошёл до моего сознания и заставил меня оглянуться. Вот и не верь во флюиды…
Я тут же нырнул в сторону, в снег. Машина промчалась, даже не притормозив. То ли шофёр, ослеплённый встречным солнцем, не заметил единственное тёмное пятнышко в белом речном коридоре, то ли было уже поздно, а резкое торможение могло развернуть грузовик, и он бы точно меня задел. Что пережил водитель, конечно, не знаю, он так и не остановился. Машину-призрак я больше не видел, промчалась мимо нашего села куда-то дальше. У бабушки, полагаю, прибавилось седых волос. Я же отряхнулся, вытер лицо от растаявшего на нём снега и поплёлся в школу…
К зиме бабушка готовилась тщательно. Наглухо закрывала дверь в горницу. В оставшейся жилой части дома – на три четверти закладывала два и без того маленьких окошка досками, а между досок и стёклами насыпала мякину. Не менее трети площади занимала русская печь с лежанкой. Рядом – кочерга, ухваты… Пола в этой части не было. То есть он, конечно, был, но земляной. На этой утрамбованной за десятилетия жизни земле (возможно, это был специально подобранный грунт: чёрного цвета, как тамбовский чернозём, но плотный – возможно, добавили глину, песок, что-то ещё) стояли дощатый стол на восемь едоков, две лавки возле него, ещё одна лавка возле печки. На стене напротив печки висела примитивная полка для посуды. Керосиновая лампа на столе. В углу над столом – икона богоматери, бабушкиной тёзки. Лампадки. По углам под потолком – ладанки, вырезанные из бумаги крестики; так бабушка защищала дом от нечистой силы. Вот и весь интерьер.
Пространство небольшое, но для двоих-троих достаточно. К тому же чем меньше кубатура, тем легче поддерживать тепло. А это была очень серьёзная проблема для безлесного степного села – дефицит топлива. Угля у нас не было, дров – тоже. Использовали кизяки – коровий помёт, а в основном – солому. Надо было очень расчётливо её тратить, чтобы на весь сезон хватило – и дом отапливать, и еду готовить, и даже в корм скоту добавлять, на одном сене до лета не проживёшь.
Экономно надо было тратить и керосин. Об электричестве тогда и не мечтали. Правда, в начале 1950-х годов:
Вдоль деревни от избы и до избы
Зашагали торопливые столбы,
Загудели, заиграли провода, —
Мы такого не видали никогда.
Эти слова Михаила Исаковского, ставшие песней, вспомнились мне как нельзя кстати. Действительно, «мы такого не видали никогда».
Помню, восстановили разрушенную половодьем плотину. Народу собрали много. Наверно, и из соседних деревень привлекли мужиков. Кормили всех здесь же: варили, насколько я помню, кулеш. В огромном котле. И кипятили воду – на чай. Вбивали сваи с помощью бабы. Это – старинное копровое сооружение. Один конец каната привязывается к бабе (металлической болванке), а другой перехлёстывается через колесо и за него тянут мужички, поднимая бабу над сваей. «Эй, ухнем! Сама пойдёт…» Баба в свободном падении ударяла по свае, и та послушно поддавалась, помаленьку углубляясь в дно. Мы останавливались, наблюдали. Сваю заколотят – перекур. Нас кулешом угощали…
Для монтажа и наладки энергооборудования прибыл инженер. Его поселили в какой-то временно пустующей избе. Мы были рады, что появились городские дети, почти наши ровесники, – сын Рудик и дочь Светка. Культурные, чистенькие, по-городскому одетые (я этим никогда не отличался, я был свой, такой же «деревенский»). Наступили каникулы, делать было нечего, и мы крутились возле их избы. Однако инженеровы отпрыски нас не баловали своим вниманием. То ли отец дал такой наказ, боясь, что мы их вовлечём во что-то нехорошее, то ли сами детки видели, что мы им не ровня и относились к нам свысока…
Поставили столбы, в каждый дом протянули провода, и в избах загорелись «лампочки Ильича». Это так большевики, в пропагандистских целях, поименовали лампочку накаливания, изобретённую, как известно всем школьникам, русским инженером Александром Лодыгиным ещё тогда, когда Ильич только на дневном свете появился.
Возле мини-ГЭС повесили репродуктор, который было слышен даже в бабушкином дворе, на противоположном конце села. Особенно хорошо звук распространялся по руслу реки.
Радость была недолгой. Воды не хватало. Её забирали для орошения колхозных полей во время засухи. Жара на Тамбовщине была постоянной спутницей лета. Зимой тем более попуски не делали. Так что вся надежда оставалась на керосин.
Но и его не хватало. Да и дорог он был для безденежных сельских обитателей. Керогазом или керосинкой практически не пользовались. Но я уже начал учиться, домашние уроки делал, книжки читал – требовался свет. А зимой темнеет рано. К такой трате керосина бабушка относилась терпимо. Не корила, не говорила, что зря его сжигаю. Иногда зажигали лучины, но их приходилось часто менять, а сухих дров для хороших лучин не хватало.
Была проблема и со спичками. Фабричных спичек обычного, ныне традиционного размера, не хватало. В деревне это было дефицитом. Бабушка делала спички из лучин, обволакивая головки серой. Зажигались они с трудом. И коробок городских спичек всегда был желанным подарком. Когда мои родители присылали из столицы посылку, в ящичке вместе с сахаром, сушками, нитками и прочим дефицитом всегда лежал коробок спичек.
Зимой, хотя печь и протоплена, но на земляном полу холодновато. Забираюсь на печь, к бабушке под бочок. Прошу: «Бабушка, расскажи сказку». Начинает, сбивается: «Нет, я не умею, вот жаль, дедушка твой не дожил, он много сказок знал». Беру на печь книжку и лампу. Читаю вслух. Замечаю, бабушка закрыла глаза. «Бабушка, – толкаю её в бок, – да ты не спи, слушай…» «Да, я не сплю, я слушаю». Но через минуту раздаётся осторожный храп: она же, бедная, за день так намается с хозяйством – накорми и напои скотину, убери за ними, растопи печь, что-то свари в чугуне… А уже с первыми петухами, этот часа в четыре ночи, надо вставать, доить корову…
Ещё заботы о внуке: связать носки и варежки, или заштопать их – опять сорванец продырявил…
Овец держали не только для мяса, но и для шерсти. Хотя мороки с ней было много. Надо было избавить от репейника, череды и прочих вредных растений, в изобилии цепляющихся за овечек. Из очищенной шерсти бабушка выделяла небольшой комок – кудель. Привязывала её к вертикальной доске прялки, садилась на горизонтальную – донце, защипывала начало нити, наматывала её на веретено, и пошла работа. Одной рукой скручивает нить, другой – вращает веретено. Случится обрыв, бабушка соединяет концы и снова прядёт. А обрывалось часто…
Пыталась учить прясть меня. Но руки не слушались. Веретено «убегало», нить постоянно рвалась. Бабушка в принципе терпеливая, но было жалко терять время. И занимала меня более лёгким – распутывать нить. С веретена, по мере его заполнения, надо было пряжу снимать. Я растопыривал руки, бабушка сматывала на них нить, а уже с рук снимала на клубок.
Крупные вещи бабушка не вязала. Некогда было этим заниматься. Тратила время только на то, без чего не прожить: вязала носки, варежки… И для меня, и для своих детей, что разъехались по стране в поисках счастья.
А как помыть ребёнка в зимнее время? Это летом раздолье – купайся в речке хоть по десять раз в день. Зимой сельских детей практически не купали. Ну, может, один-два раза. Не знаю почему, но в нашем селе никто не имел отдельно стоящей бани, как это обычно водится в русских селениях. Из-за нехватки строительного леса? Дров?