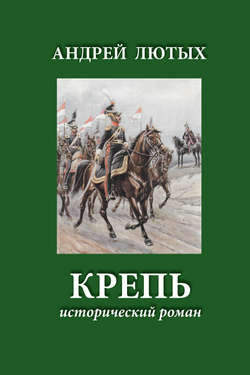Читать книгу Крепь - Андрей Лютых - Страница 11
Часть первая
Глава 10
Избранники Белой дамы
ОглавлениеНаправляясь на новое место службы, всегда обо всем осведомленный Тарлецкий уже знал, что выиграет время, если отправится не в Лиду, а сразу в Гольшаны. Прибыв в местечко на три часа раньше своего полка и на час раньше квартирьеров, он, разумеется, занял в бывшем монастыре помещение, самое удобное для того, чтобы, не откладывая, устроить для офицеров батальона ужин по случаю своего вступления в должность. Для этого он выбрал достаточно большой зал во втором этаже в самом конце здания, примыкавшего к башне-часовне. Наверное, здесь когда-то была столовая братьев-монахов, потому что даже мебель для довольно многолюдного застолья искать не пришлось – посередине зала со сводчатыми потолками, неровными, словно вылепленными ладонями, уже стояли два длинных стола, а недостающую лавку Игнат быстро заменил принесенными из других помещений стульями и табуретами. Он же принес и положил у стены достаточно много свежей соломы для ночлега и вообще постарался на славу, накрывая на стол. Тарлецкий не поскупился: стол украшали полдюжины золотистых горлышек шампанского, а темных, не помеченных никакими наклейками, а от того еще больше манивших своей загадкой бутылок с ромом и венгерским вином на столе и стоявших в углу ящиках было устрашающе много. Гостей ждали и вареное мясо, и жареные куры, и рыба, и зелень – все, что Тарлецкий успел купить на местном рынке. Пригодилась и выращенная Игнатом в Вильно редиска, которую тот не позабыл вырвать с грядки перед убытием вместе с барином в полк.
Вскоре после построения, управившись с размещением солдат и устройством собственных квартир, у Тарлецкого начали собираться офицеры. Новые подчиненные Тарлецкого, ожидавшие, что действительно попадут на какой-то серьезный и нудный совет, увидев накрытый стол, одинаково, словно сговорившись, говорили: «О-о-о!!!». «Вот вам и штабной майор – нам всем поучиться!» – сказал майор Быков, появившейся в келье Тарлецкого одним из первых. Помимо новых сослуживцев по батальону были приглашены командир третьего батальона майор Перепелицын, полковые адъютант, казначей и квартирмейстер – совсем молодые подпоручики. Командира полка среди приглашенных не было: назначенный на место умершего Эмбахтина майор Пригара 2-й был сейчас за две сотни верст от Гольшан и о своем новом назначении еще даже не знал. Он командовал сводно-гренадерским батальоном 24-й дивизии, входившим в состав 2-й западной армии Багратиона, дислоцировавшейся под Волковыском. Зато пришел командир бригады полковник Вуич. Будучи шефом 19-го егерского полка и находясь при нем, полковник, как это было заведено, фактически им и командовал.
Судьба этого старого вояки делала его очень подходящим шефом для полка со «ссыльном» батальоном. Капитанский чин Вуич получил еще за штурм Измаила, участвовал в подавлении здешних конфедератов в 1794-м, отведал в 1807-м французской картечи и заслужил орден Святого Георгия. Но награду так и не получил. В недавней войне со Швецией он удерживал один из Аланских островов с батальоном егерей и четырьмя десятками гусар и казаков без единой пушки. Когда лед вокруг острова растаял, этот отряд оказался отрезанным от своих. Выдержав четырехчасовую бомбардировку с окруживших остров шведских галер, Вуич вынужден был сложить оружие. После заключения мира со шведами он предстал перед военным судом и был оправдан, однако рескрипт о его награждении за французскую компанию император так и не подписал, а производство в генеральский чин, давно заслуженный, год за годом отодвигалось.
Появление этого колоритного серба с живым мясистым лицом, отца-командира, очень уважаемого в полку, послужило сигналом к началу застолья. Вуич, как водится, пожелал новому штаб-офицеру удачной службы, с энтузиазмом за это выпил и тут же с искренним сожалением вместе с полковым адъютантом покинул компанию, успев перед уходом выпить за здоровье Государя Императора. Командир корпуса Дохтуров, разместивший свой штаб неподалеку в замке, собирал у себя всех командиров дивизий, бригад и полков, причем по какому-то действительно важному поводу.
За столом оставалось еще более двадцати человек. Офицеры, хоть среди них и не было никого, кто недолюбливал бы своего командира, после его ухода все же почувствовали себя еще более непринужденно.
Тарлецкий, устав улыбаться в ответ на поздравления, вместо которых, прощаясь со своими прежними сослуживцами, он выслушивал соболезнования, на какое-то время выключился из общей беседы. Теперь, медленно смакуя шампанское, он оценивающе рассматривал офицеров своего батальона. Больше других его должны были интересовать непосредственно ему подчиненные командиры рот[4], про одного из которых предстояло еще и составить заключение для особенной канцелярии. Как раз этот субъект и производил на Тарлецкого самое неприятное впечатление. Такой же, как он, новичок в батальоне старый капитан Княжнин. Единственный, кто промолчал и даже не улыбнулся, узнав, зачем он сюда приглашен. И сейчас этот выскочка с внешностью генерала и с солдатским загаром ни с кем не разговаривает, молча пьет ром, почти не закусывает. Однако и явного высокомерия по отношению к другим не выказывает, просто старается быть незаметным, что тоже подозрительно. «Между прочим, мог бы взять на себя половину расходов – в батальон-то назначен одновременно со мной» – подумал Тарлецкий с неприязнью.
Слухи о необычном прошлом этого офицера явно уже распространились в полку: на пятидесятилетнего капитана молодые прапорщики и подпоручики уже смотрели как на человека, овеянного неким загадочным ореолом. Это вызывало у Тарлецкого к Княжнину еще и чувство ревности: ему казалось, что Княжнин с его смутным прошлым, а не он со своими связями и безграничными возможностями становится самым авторитетным офицером в батальоне. Даже мундир у этого капитана был сшит из самого настоящего тонкого и прочного английского сукна, подороже, чем у него, уж в этих-то вещах майор Тарлецкий знал толк. Утешало только то, что портной у Тарлецкого был явно лучше.
Что же касается других офицеров, то с ними все было проще. У большинства их поношенные мундиры, подпоясанные дешевыми нитяными шарфами, были сшиты из грубого ворсистого солдатского сукна. Новый начальник Тарлецкого майор Быков, крупный, грузный, с темным, почти черным лицом, большим ноздреватым носом, толстыми губами и осоловевшими глазами тоже явно жил на одно лишь жалование. Майор был из тех старых служак, циников и пьяниц, которые уже нисколько не скучают по жене, а если когда и напишут ей в вотчинную деревеньку, то разве что сильно проигравшись в карты.
Капитан Овчинников, командир первой роты, маленький, жилистый и тоже уже не молодой, откинув голову, как певчая птичка, назад и к плечу, что-то с постным выражением на лице говорил своему приятелю, остроносому и розовощекому командиру второй роты, заставляя того давиться от смеха. У Дмитрия сложилось впечатление, что капитан Овчинников всегда говорит тихо, что, возможно, является признаком ума. Вообще за столом было не слишком шумно, это несколько удивляло Дмитрия. Казалось, давно привыкшие друг к другу офицеры занимаются привычным делом. Это было не совсем то, что было нужно Тарлецкому, ведь он устроил это застолье еще и для того, чтобы быстро разузнать все, что ему поручил узнать загадочный господин Майер (в голове даже невольно составлялась ассигновка по отнесению сегодняшних расходов за счет Особенной канцелярии). Чтобы расшевелить гостей, Тарлецкий попросил наполнить бокалы и провозгласил тост:
– Господа! Я хочу выпить за девятнадцатый егерский полк, волею судьбы ставший для меня теперь и семьей, и домом, за его офицеров, столь радушно меня встретивших. Я не сомневаюсь, что нам приятно будет служить вместе. За вас, господа!
– Ура! За девятнадцатый егерский! – подхватили офицеры, поднимаясь со скамеек с бокалами и кружками, в которых было налито уже не шампанское.
– А что, господа, вы мне расскажете про полк? – спросил Дмитрий, когда офицеры вновь сели за стол. – Я слышал, что некоторые солдаты здесь отказывались принимать православное причастие?
– Ерунда, – негромко сказал Овчинников, – наши ребята принимают даже мозольную жидкость и дорогие духи, попадись они им только.
– Так что и причастие от отца Василия принимают, он их всех в правильную веру оборотил.
Сидевший рядом с Овчинниковым поручик Полозов, прыснул со смеху, чуть не ударившись лбом о стол, но тут же поднял голову и добавил:
– Да нет, Дмитрий Сигизмундович, полк у нас неплохой, и батальон как батальон. И пороха некоторые уже понюхали, и на смотрах не последние. Одним словом, служить можно. Да вам лучше всех господин майор расскажет, он больше всех лиловый воротник носил[5].
– Да уж, понюхал я табачку в Пресновской крепости, Дмитрий Сигизмундович, эвон как нос раздуло, – словно нехотя, взял слово Быков и все сразу притихли, предвкушая отменное развлечение. – А порох тут нюхали, как изволил похвастать поручик, только те, кого в полк из других частей перевели, вроде вон капитана Княжнина, по нем сразу видать, какой ландскнехт…
На «ландскнехта» Княжнин вовсе не обиделся, наоборот, впервые за вечер улыбнулся.
– Мы ведь до лета 1808-го в Сибири стояли, по дюжине крепостей разбросанные, иные друг друга в глаза не видели, не то что Наполеона, – продолжал Быков. – Зато, как двинулись на запад, так сразу в Европу, в огонь! Воевать с Австрией…
Вспоминая эту «войну», когда Россия обозначала выполнение своих Тильзитских союзнических обязательств перед Францией, офицеры, сидевшие за столом, заулыбались.
– Славное было время! После нашей-то глуши, – вспомнил капитан Овчинников, – мощеные дороги, каменные сараи под черепицей, фрау в полосатых чулочках, колбаса… и жалованье идет не в ассигнациях, а серебром!
Однако боевые потери батальон понес, – с серьезным видом осадил капитана Быков и тут же пояснил для Тарлецкого: – Стояли мы както возле какой-то тамошней конфетной мануфактуры. Так вот один дурак из гренадерской роты захотел полакомиться, упал в чан с сиропом, да и утонул в нем. Насилу выловили, засахарился весь, как марципан.
– Как цукат, – сдерживая смех, тогда как все прочие сделать этого уже не могли, поправил поручик Полозов.
– Вам бы, господин поручик, только оконфузить старого майора, дескать, не знает, деревенщина, что такое марципан, – не обращая внимания на реакцию подчиненных, с деланным укором сказал Быков. – Так вот, сами вы оконфузились, а майор не ошибся: Марципан – фамилия того гренадера…
Новый взрыв хохота последовал за этой репликой Быкова.
– А я знал в Лиде одного жида, его звали Соломон Цукат, – тихо сказал капитан Овчинников.
– Нет, господа, я верно знаю: Цукат – это заводной жеребец нашего полкового адъютанта! – вставил поручик Загурский, сидевший рядом с Княжниным, после чего Полозов, наконец, упал лицом на стол и уже долго не мог подняться.
– Да, господа, – с трудом отдышавшись от смеха, заключил Тарлецкий, – уж в одном мне наверное повезло: с вами не скучно!
В разговор вступил командир гренадерской роты капитан Крауззе.
Этот офицер отличался превосходной осанкой и аристократическими чертами лица, окрашенного в какой-то неестественно ровный желтоватый цвет. И мундир у Крауззе был под стать – сшит явно не на капитанское жалование. Осушив очередной бокал, он, любуясь собой, возразил:
– Напротив, Дмитрий Сигизмундович, из рассказа господина майора вы можете заключить, что до сих пор именно что скука была нашим главным противником. Луцк, наверное, самый большой город, который мы видели за последний год. Никакого светского общества, только косо посматривающая напыщенная шляхта…
– А я наслышан, что и в борьбе со скукой у вас есть боевые потери? – попытался перевести разговор на интересующую его тему Тарлецкий и сразу почувствовал, что ее обсуждение не слишком приятно этому кругу офицеров. Те, кто был еще не очень пьян, перестали смеяться, многие предпочли вместо продолжения разговора отправить в рот кусок побольше и вроде как оставаться при деле, кто-то принялся набивать трубочку табаком. Полк накануне потерял своего командира, и какое бы нелепое недоразумение за этим не стояло, шутить по этому поводу было неуместно. Однако, видимо из уважения к новому штаб-офицеру, выказавшему сегодня столько щедрости, ему ответили, несмотря на очевидную бестактность вопроса. Говорить пришлось поручику Полозову, умевшему очень быстро переходить от безудержного смеха в совершенно серьезное состояние и обратно.
– Вы про случай с солдатской женой? Так то, скорее, не от скуки. У поручика Коняева к тому молодому егерю, мужу ее, давняя нелюбовь была.
– Городейчик, – подсказал фамилию новопреставленного из своего взвода поручик Загурский.
– Так вот, сей Городейчик был в команде новобранцев, при коей Коняеву довелось быть партионным офицером. По дороге из рекрутского депо в полк трое или четверо из партии дезертировали, один умер, еще несколько человек заболели горячкой и остались в госпиталях. Одним словом, Коняев привел в полк только три четверти партии, а по установлению и за потерю десятой части партионному офицеру следует гауптвахта. Так что Коняев за свою нерадивость был препровожден под арест до тех пор, пока все оставленные в госпиталях не соберутся. Последним выздоровевшим оказался Городейчик. Вот поручик и не мог ему простить месяца гауптвахты.
– А Городейчик бы помер от горячки, кабы его жена не выходила, Вероника, – добавил Загурский. – Она ведь за мужем увязалась, чтобы не стать наложницей своего пана. Тот, верно, не знал, что по российскому закону, ежели женатого солдата берут в рекруты, жене полагается воля, да еще земли следовало дать. Они на самом деле любили друг друга, и никаких поводов Коняеву Вероника не давала.
– Давайте, господа, за упокой души Андрея Григорьевича. Благороднейший был человек, от того и вмешался, и под пулю попал, – предложил майор Перепелицын и все выпили, не чокаясь.
– Право, стоит и разойтись на этом. Роты только что с перехода. Кажется, сейчас не самое уместное время устраивать пир горой, – впервые вступил в разговор Княжнин, словно нарочно для того, чтобы неприязнь к нему со стороны Тарлецкого переросла в ненависть. Однако, далеко не все считали застолье неуместным, и Княжнину тут же возразили: «Полно вам, капитан, завтра дневка!», а Крауззе, который давно уже посматривал на Княжнина, подбирая момент для того, чтобы что-то у него спросить, сказал:
– А вас, капитан, мы не отпустим, прежде чем вы хоть что-то не расскажете о себе!
– Так вот, о борьбе со скукой. А я вчера все же добился прощального свидания с красоткой-шляхтянкой с ближнего фольварка, – легко меняя тему, снова вступил в разговор уже изрядно подвыпивший Быков.
– Так вы вчера куртизанили с паненкою! Ну и как успехи, майор? – спросил сгорающий от нетерпения Полозов.
Быков усмехнулся и попытался откинуться на спинку стула, которой не было, так что Овчинникову пришлось его поспешно поддержать.
– Нет, господа, просто смешно. Красотке не меньше тридцати лет, и я рассчитывал, что она не станет изображать из себя фиалку недотрогу… А мы, как юные влюбленные, простояли два часа возле клуни, понюхали друг у друга под мышками… Вот, милостивые государи, и все!
– Переждав взрыв хохота, которым офицеры встретили рассказ о любовных похождениях старого майора, Тарлецкий сказал:
– Позвольте мне с вами не согласиться, господин майор. Я, например, очень высокого мнения о здешних шляхтянках. И надо вам признаться, что из-за любви к одной из них я и оказался здесь. Я хотел было уже просить ее руки, но ее отец, чтобы не отдавать ее за меня, поскольку терпеть не может русских, состряпал на меня донос – и вот я среди вас.
Тарлецкий сопроводил свое откровение довольно дешевым театральным жестом.
– Так выпьем за любовь! Это, оказывается, благодаря ей мы сегодня сыты и пьяны! – предложил уже изрядно захмелевший Полозов.
Попойка достигла уже той стадии, когда на ура встречается любой тост. Тарлецкий не отказывался от вина. День крутого перелома в своей жизни он решил отметить так, чтобы это запомнилось. Игнат, едва успевал убирать со стола пустые бутылки и выставлять вместо них новые.
– Ну вот. Тайны раскрываются! Теперь мы знаем все обо всех, кроме вас, господин Княжнин. Откройте же и вашу тайну! – снова взялся за свое капитан Крауззе, заставив Княжнина едва заметно поморщиться.
– Вас интересует, почему в свои годы я только капитан? Ответ простой – не выслужился, – ответил он, впрочем, без раздражения.
– Дмитрий Сергеевич, вы не подумайте, что мы хотим заставить вас рассказывать о том, о чем бы вы не хотели говорить. Но мне кажется, всем будет интересно послушать вас как человека, многое повидавшего. Правда ли, что вы долгое время жили в Англии? – спросил дипломатичный Полозов.
– И вправду, расскажите нам. Никогда не был в Англии, и наверное никогда не побываю, – поддержал его Быков, который был для Княжнина непосредственным начальником. Загадочному капитану пришлось сдаться.
– Да, это правда. Только не столь уж и долгое время – пять лет. Да и из них больше половины пришлось провести не в Англии, а в Португалии.
Крауззе обвел победным взглядом офицеров, многие из которых притихли, хоть это уже и непросто было сделать.
– В Португалии? Что же вас туда занесло? Это ведь где-то в самом конце Европы? – с удивлением, скорее всего неподдельным, спросил он.
– Обстоятельства сложились так, что пришлось завербоваться в британскую армию. А она в это время воевала в Португалии с французами.
– Значит, и вам довелось повоевать?
– Довелось.
– Ландскнехт! Я же говорил – каков ландскнехт! – хлопнув себя по ляжке, воскликнул Быков.
– А что это за обстоятельства, из-за которых вам пришлось вступить в армию державы, с которой Россия по тогдашним своим обязательствам находилась в состоянии войны? – спросил Тарлецкий.
– Не думаю, что кому-то в России хотелось исполнять эти обязательства. А обстоятельства, из-за которых я завербовался в 95-й легкий полк, весьма тривиальны: просто нужно было на что-то жить.
– Эти обстоятельства мы понимаем, не так ли, господа офицеры? – сказал Быков, обведя мутным взглядом своих скромно обмундированных младших офицеров, многие из которых даже по примеру солдат объединялись в артели, чтобы экономнее столоваться.
– Не поверю, что дело только в деньгах. Да и может ли жалованье английского офицера выправить бюджет благородного человека, у вас, ведь, верно, и семья есть? Я полагаю, тут главным для вас было именно то, что Англия напрямую воевала с французами. Верно, у вас к ним остались счеты после Тильзита! – вступил в разговор командир третьего батальона майор Перепелицын – крепкий, подтянутый блондин лет тридцати пяти, явно еще не утративший интереса к службе, как майор Быков.
– Я получал не офицерское, а сержантское жалование. Однако, оно было выше, чем мое нынешнее капитанское.
Услышав это, многие, особенно те самые «артельные» офицеры – от прапорщика до поручика – оживленно зашумели.
– А что касается счетов к французам… – продолжал Княжнин, – если у меня и были к кому-то личные счеты, то скорее к австрийцам, чем к французам, однако, не скрою, мне было не все равно, с кем воевать. Аустерлиц и Фридлянд я вспоминал. А более всего боялся, чтобы Жюно не уговорил Сенявина дать ему моряков из своей эскадры для обороны Лиссабона. Стрелять в соотечественников я бы не смог. Слава Богу, Сенявин, как и вы в Австрии, проявил благоразумие – просто стоял на рейде.
Сказав это, Княжнин одним большим глотком выпил ром, остававшийся в его кружке, словно давая понять, что его рассказ закончен. Однако интерес к его истории среди офицеров только разгорелся. Последовав его примеру, и не тратя время на то, чтобы закусить, вновь принялся его донимать Полозов:
– Расскажите же еще что-нибудь! Что собой представляла эта война? Хороши ли англичане в бою? А французы? Мы ведь, того и гляди, с ними снова схлестнемся…
Княжнин, которому Загурский только что наполнил опустевшую кружку, снова отхлебнул, как будто для того, чтобы развязать себе язык. Однако, рассказ его был немногословным:
– Война, господа, она одна, что в Польше, что в Португалии. Только пыль там чаще красная, и еще горы. А кровь такая же. Но вот воюют англичане не так, как мы. Они не трусы, однако ведут войну так, чтобы терять поменьше людей. И еще, они выцеливают среди противников отдельных людей… Будто убийцы. И мне пришлось. Ведь девяносто пятый полк в британской армии как раз стрелковый. Он один такой, даже обмундирован в зеленое, а не в красное, как остальные полки, и вооружен исключительно нарезными карабинами. Его роты распределены по всем бригадам армии нарочно, чтобы отстреливать неприятельских офицеров. Я к этому так до конца и не привык.
– Но научились?
– Научился. Из хорошего оружия грех промахнуться. Только заряжать его приходится в три раза дольше. А французы, как и мы, предпочитают палить не так прицельно, но часто. Храбры до отчаяния – их косишь, а они только смыкают ряды и карабкаются, карабкаются на кручу… Но и их можно побеждать.
– Если с ними нет Наполеона, – вставил Перепелицын.
– Сие немаловажно. Но важнее не проиграть им в храбрости и превзойти в упорстве, которого французам порой не хватает. И следует верить в свою победу, а не бояться ее, как англичане, которые приняли капитуляцию у Жюно на весьма интересных условиях: сами же на своих кораблях отвезли из Лиссабона в Тулон побежденных, которые сохранили и оружие, и знамена, и право хоть завтра снова воевать против англичан. Впрочем, таким образом они избежали кровопролития, коего, как я уже говорил, англичане в своих рядах не любят.
– Известное дело: ваши англичане привыкли воевать деньгами, – сказал Тарлецкий.
– Однако и это британское оружие теперь не столь грозное – у них все больше банкротств из-за континентальной блокады. Теперь англичанам остается или свернуть Наполеону шею с нашей помощью, или испытать такое же унижение, как мы в Тильзите.
– Континентальная блокада… Если вам угодно, я могу вам сказать, где можно купить любой английский товар от колониального табака до сукна, правда, втридорога, – сказал Тарлецкий, который упорно старался соревноваться с Княжниным в осведомленности.
Согласен с вами, – сказал Княжнин, – поэтому Наполеон чувствует, что его пальцы зажаты на шее у Англии не слишком плотно, и теперь готов на все.
– Вы считаете, что будет война? – скептически спросил Овчинников.
– Я потому и вернулся в Россию.
«Посмотрите на него, каков патриот! В его годы такое дешевое позерство!» – со злостью подумал Тарлецкий.
В этот момент он начал ощущать что-то необычное: комната словно до бесконечности удлинилась, своды потолка стали переплетаться какой-то каменеющей паутиной, а в уши навязчиво стали проникать какие-то звуки, будто кругом, и даже по потолку беспорядочно бегают десятки людей, и их шаги гулко отдаются под сводами. Потом многие из офицеров подтверждали, что примерно в то же время почувствовали то же самое, только другим слышались кому приглушенные вздохи, кому скрежет, кому бряцание решеток или ключей. Тогда же Тарлецкий объяснил себе этот необычный эффект «неправильной» стадией опьянения и решил, что нужно просто выпить еще для прояснения мозгов, но следующая реплика уже слетала с его губ как бы независимо от него:
– Ежели у вас столь горячее стремление защитить отечество, ежели вы его так любите, то зачем же тогда вы его покинули?
Княжнин даже не посмотрел в его сторону. Тарлецкий схватил со стола откупоренную бутылку венгерского и перевернул ее горлышком в свой бокал. Вино, сделав три-четыре «выстрела», выплеснулось на стол, и Тарлецкий, отставив бутылку в сторону, залпом выпил.
– Почему вы не отвечаете мне? – остановив на Княжнине взгляд, начавший уже бессмысленно блуждать, спросил он, повышая голос. – Как же, господин Княжнин, вам, офицеру лейб-гвардии, имеющему черт его знает сколько заслуг, зазорно… Вам не нравится, что вы оказались в подчинении у молокососа без роду без племени, у интенданта, не так ли? А в сомнительном свойстве ваших заслуг следует еще разобраться!
– Мне вовсе не зазорно, – выдавил из себя Княжнин, продолжая смотреть мимо Тарлецкого, словно тоже видя в дальнем темном конце зала что-то необычное. – Я просто слишком впечатлен вашей речью на смотре. Не знаю, что и ответить…
– Да! Я вчера был интендантом, но я выполнял поручения государственной важности, о которых нельзя распространяться… Я не из тех комиссионеров, кому вы, господа ротные, привыкли оставлять десятую часть причитающихся вам сумм, чтобы в последующем не было проволочек, и которых вы презираете. Я сам препроводил многих таких, вовсе зарвавшихся, прочь со службы… И теперь наш батальон будет получать все, что полагается. Потому что я знаю, как устроены финансы всей огромной армии, и сколько при их движении кладет в свой карман каждый чин…
– Вы напрасно этим гордитесь. Финансы армии устроены очень скверно. Свинец для пуль на учебную стрельбу приходится покупать из запасного фонда, почитай, что на свои, а от того не покупается вовсе, а солдат делает за год три или четыре выстрела! Куда он после этого годится в стрелковой цепи против француза? – вдруг перестал отмалчиваться Княжнин. Он даже начал горячиться, и, наконец, стало заметно, что спиртное действует и на него при всей его португальской закалке. – Мы бываем биты французами потому, что наш солдат стойкий в строю, а потеряв строй, не знает, что ему делать, и, как правило, бежит с поля боя. Вы просили историй про португальскую войну? Извольте – позволю себе вспомнить одну. В сражении при Бусако в самый страшный момент, когда французские колонны дошли, несмотря на потери, до вершины горы и уже готовы были нас оттуда сбросить, вперед вышел генерал Крауфорд в черном плаще (у него даже прозвище было «Черный Боб»), поднял вверх шляпу и закричал: «А теперь, солдаты пятьдесят второго, отомстите за сэра Джона Мура!» И, ей Богу, хоть я и не знал этого Мура, убитого французами годом раньше при Ла-Корунье, и даже в пятьдесят втором полку не состоял (наша рота была ему придана для усиления), однако же я, как и все вокруг, был охвачен таким гневом и такой решимостью мстить за этого чертова Джона Мура, что с каким-то ревом бросился в контратаку и не сделал больше ни одного выстрела – только кромсал этих несчастных французских новобранцев полусаблей. Видите ли, простой британский солдат, как и генерал Крауфорд, дрался за свою честь. Среди простых французских солдат принято драться за свою честь на дуэлях. А мы своему солдату отказываем в том, что у него может быть честь. За людей их не признаем – так, серая масса.
– Так ведь иной раз и пытаешься с ними поговорить по душам, – не согласился Полозов, – так ведь молчат, как истуканы.
– Это не значит, что они вас не понимают и не станут ценить благородного и справедливого к себе отношения. И это не дает права таким, как Коняев, пользоваться их женами будто наложницами. Останься он в батальоне, в бою наш солдат думал бы о том, как пустить пулю ему в спину, а не о том, как одолеть врага. И не станет он, солдат, храбрее от того, что вы, господин майор, пообещали им новые чешуи для киверов.
– Подумать только! Стало быть, вы здесь единственный благородный человек! Сэр! – сразу театрально отреагировал Тарлецкий. Но теперь его игра выглядела значительно более убедительной, просто яркой, а странные отзвуки шагов у него в ушах сменилось шумом аплодисментов. На самом деле за столом на несколько мгновений установилась тишина, словно приоткрыли крышку и выпустили лишний пар из котла.
Но дрова под ним пылали уже слишком жарко.
Поощряемый мерещившимися ему аплодисментами, Тарлецкий продолжал:
– Да тот же презираемый вами Коняев благороднее вас, который за английские фунты пошел воевать в чужую армию! Как же, вам там пожаловали чин сержанта, не какого-то капитана российской лейб-гвардии! Он, видите ли, переживал: не пришлось бы стрелять в русских моряков! Он называет английских стрелков, целящихся в отдельных офицеров, убийцами, но сам, по собственному признанию, делает то же самое. Привычное дело быть убийцей, господин Княжнин? Вспомните март 1801-го…
Услышав этот грубый намек, касающийся его участия в дворцовом перевороте, когда был задушен император Павел, Княжнин поднялся из-за стола с побелевшим лицом, сверкающими, словно две черные молнии, глазами и, впиваясь ногтями в собственные ладони, сказал, отчетливо выговаривая каждое слово:
– Не вам учить меня благородству, господин поляк со шкловским лоском, который служит, как вы выразились, в «чужой армии», только почему-то называет себя русским. Давно ли ваш батюшка вытащил свою шляхетскую саблю из кучи навоза на телеге?
Тарлецкий, который словно наяву увидел именно такой эпизод из собственного детства, нащупал на столе только что опорожненную им бутылку, и что есть силы запустил ее в Княжнина. «Ландскнехт» продемонстрировал, что ром, если и подействовал на его мозги, то не на те области, которые отвечают за реакцию. Он даже не стал уклоняться – молниеносным движением правой руки схватил со стола деревянную кружку и парировал ей летевшую в него бутылку, так что та, изменив траекторию и едва опять не разбив голову Игнату, ударилась в стену, разлетевшись вдребезги.
– Прекратите, черти! Второго смертоубийства в батальоне за неделю мне уж точно не простят, в солдаты разжалуют! – проговорил майор Быков, еще пытавшийся обратить происходящее в шутку. Впрочем, для того, чтобы ее оценить, времени уже не оставалось.
– Господа, что за наваждение? Я один ее вижу? – дрожащим голосом проговорил молодой поручик из гренадерской роты.
В том месте, где разбилась бутылка, словно из ее осколков, материализовался туманный белый силуэт молодой дамы, медленно поплывший из темной глубины свода к столу.
– Вероника! – пробормотал кто-то. Ошалевший Игнат, оказавшийся ближе всего к месту, где появился призрак, с воем стал бегать по залу в тщетных поисках двери.
– Нет-нет! Вероника осталась в лагере, у могилы своего Аверки… – возразил кто-то, тем самым подтверждая, что видение возникло не только у гренадерского поручика.
Белую даму видели все.
– Однако, ну и ром у вас, Дмитрий Сигизмундович… Нельзя было мне поминать чертей! – пробормотал старый циничный Быков, при всем при том начиная креститься.
– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй… – кто в голос, кто шепотом принялись молиться офицеры, но слова застыли у них на губах, когда дама приблизилась к капитану Овчинникову, и протянула к нему руки, словно умоляя о чем-то. Овчинников задрожал и едва не лишился чувств, а дама, оборотясь вокруг поддержавшего капитана прапорщика из его роты, приблизилась к капитану Крауззе, лицо которого из желто-коричневого сделалось совершенно белым. Его дама «умоляла» еще настойчивее, едва не повиснув у него на шее, а когда, словно отчаявшись добиться от Крауззе чего-то нужного ей неведомого, она бросилась к следующему офицеру, тому самому поручику, который первым ее увидел, остальные, опрокидывая лавки, в панике бросились к противоположной стене заколдованного зала.
За столом оставались двое. Те, кому по офицерским понятиям полагалось едва ли не тот час же драться – Тарлецкий и Княжнин. Но пока они не могли даже сжигать друг друга взглядами: происходящее вокруг было столь необычным, что не могло не отвлечь внимания. Впрочем, Княжнин, поставивший на стол кружку и опустивший руку на эфес шпаги, отвлекался меньше – вся потрясшая офицеров мистика происходила у него за спиной. Он продолжал презрительно смотреть на Тарлецкого, пока не понял, что взгляд широко раскрытых глаз противника направлен мимо него, ему за спину. Последовав за взглядом Тарлецкого, Княжнин увидел, что теперь руки белой дамы простерты именно к нему. Собрав всю свою решимость, он остался на месте и даже отважился встретить ее взгляд. К нему были обращены бездонные черные омуты на белом, искаженном страданием лице, которое вдруг стало рассеиваться, словно поглощаемое этими омутами, открывшимися Княжнину. Тот застыл и не смог бы теперь двинуться с места, даже если бы захотел.
– Господа, что с вами? Совсем перепились?
Эту фразу произнес вернувшийся с совета у Дохтурова полковой адъютант, пораженный картиной, которую он увидел: в дрожащем полумраке освещенного дюжиной свечей зала двое застыли напротив друг друга, словно каменные изваяния, денщик Тарлецкого бьется о стены, остальные офицеры, словно стадо перепуганных овец, сгрудились под темными сводами. Выдержав паузу, которая понадобилась адъютанту, чтобы убедиться, что перед ним все же те самые люди, с которыми он расстался час назад, тот попытался отрезвить эту компанию:
– Господа, война! Позавчера Наполеон перешел через Неман…
Ночь, когда началась война, ничем не отличалась от сотен и тысяч других ночей. Бесконечное недосягаемое дымчатое небо. Россыпь одинаковых звезд, словно тлеющий мусор. Будто новые звезды, поднимаются вверх искры бивачного костра, в который экономно подбрасывает хворост солдат артельщик. Лай собаки на окраине местечка. Взрывы хохота подвыпивших офицеров из окон монастыря. Дышит, не спит ручей со странным названием Карабель. Полусонная луна. Ночь, каких миллионы.
Для кого-то – последняя. Но кто об этом знает и какое дело остальным? По каким приметам узнать человеку свою последнюю ночь? Если падает с неба его звезда, смотрит ли он в это время в небо?
Несколько солдат у костра еще не спали, тихо разговаривали. В этот раз егеря третьей роты выпили свою винную порцию за упокой Аверки Городейчика, может, и загубившего свою душу, но избавившего роту от ненавистного «Коня» – поручика Коняева. Придумал это простое прозвище ротный балагур Евсей Филимонов, озорной, еще не старый, но уже бывалый солдат с проседью в голове. Он же и нового ротного окрестил Генералом. Теперь он говорил как раз про него:
– Я в господах сразу понимаю, что за человек. «Генерал» наш, я вам скажу, солдата будет беречь. Может, кто из нас и дослужит свои двадцать пять лет до конца.
– А что, коли выслужишь всю службу? Воля будет? И земли дадут? – спросил бывалого Антось, дослуживавший первый год.
– На что тебе будет земля, дурному старику? – усмехнулся Евсей. Ты своим землепашеством рублей тридцать за год заработаешь, а в Москве кучер столько за месяц получит, а сторож и того более – до ста тридцати целковых в месяц! В Москву надо, когда отслужишь, в Москве все деньги!
– Брешешь!
– Вру, что ли? Не вру, вот тебе крест. Мы когда из Сибири шли, я с одним московским приказчиком разговаривал. Только, чтобы в сторожа или там дворники взяли, нужно, чтобы руки-ноги после службы целы остались. Опять же, дурной болезни не подобрать…
– А я сегодня на здешнем рынке такую историю слышал, – вступил в разговор рябой артельщик из крепких сибирских крестьян однодворцев, для которого поход на рынок был первым делом при вступлении в любое местечко. – Когда строили этот монастырь, где сейчас офицеры гуляют, одна стена все время заваливалась, что бы каменщики ни делали. Они и решили, что неспроста это, нечистая сила пакостит, и, стало быть, жертву нужно принести. Человечую!
– Верно, давно это было. Дремучий тогда был народ! – заметил Евсей, и, поудобнее устроившись на своей шинели, сказал, зевая, – Давай, сказывай дальше.
– Сговорились так: чья жена первая придет с обедом для мужа, ту тайно и убьют, и в стену, что все время рушится, замуруют! И самый молодой каменщик стал бога молить, кабы не его жена красавица пришла первой. Любил ее, стало быть, сильно. И она его сильно любила, и первая с обедом-то и прилетела, себе на погибель. Сделали все, как уговорились. И стена более не рушилась, все достроили в срок, который господин назначил. Только с тех пор в монастыре является призрак белой дамы и всех пугает. Просит она чего-то у тех, кто ее увидит…
– Верно, чтобы похоронили по-христиански, – предположил Евсей.
– А может, мужа своего ищет? Понять не может, как он мог согласиться на то, что с нею сделали, мучается, – сказал Антось. – Вот и Вероника Аверкина так его любила, что за ним полетела, а обернулось бедой.
– Подмурок нужно было тым каменшшыкам покрепче закладывать, и не пришлошь бы девку убивать, – прошепелявил откуда-то Тимоха, про которого думали, что он давно спит.
В это время из дверей монастыря, будто пчелы из встревоженного улья, стали буквально вылетать офицеры их батальона.
– Что это с ними? Никак белую даму увидали? – удивился артельщик.
– А то и самого Наполеона! Дамы бы они так не перепугались… – пошутил не менее удивленный Евсей.
Самое время было Антосю вспомнить о наказе отца Василия. Отодвинувшись от костра и подняв взгляд к неменяющемуся звездному небу, он принялся тихо шептать, стараясь, как учил батюшка, проникнуться смыслом произносимых слов:
– Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия…
4
В пехотном или егерском батальоне русской армии было четыре роты, одна из них гренадерская. Действующий полк состоял из двух батальонов – первого и третьего, второй батальон являлся запасным (запасной батальон 19-го егерского полка в 1812 году состоял в гарнизоне Бобруйской крепости).
5
До мая 1808 года цвет воротника и обшлагов в 19-м егерском полку был лиловым. С 1809-го года в егерских полках была введена единая форма с темно-зелеными с красной выпушкой воротниками и обшлагами. Полки отличались цветом погон и выложенным на них из шнурка номером дивизии.