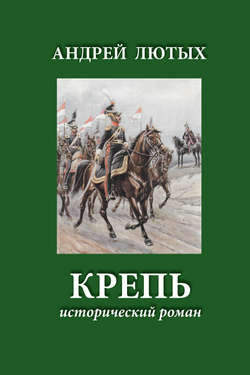Читать книгу Крепь - Андрей Лютых - Страница 2
Часть первая
Глава 1
Шпион
ОглавлениеТемно-синей лентой, бесконечными змеиными изгибами петляла на картине художника река. И дальше, за рамками небольшого полотна, она нетерпеливо бросалась то вправо, то влево, словно торопясь из-за плеча художника взглянуть на его работу – хорошо ли она выглядит на портрете? А может быть, не в кокетстве извилистой Березины было дело, а хотела она сказать действительно что-то важное, о чем-то предупредить? И казалось, что это не березы, подарившие реке название, шумят своей суетливой листвой, а сама река настойчиво нашептывает пейзажисту:
– Художник! Ты последний, кому суждено запечатлеть мое течение и мои берега такими мирными. Скоро вместо кувшинок в них застынут человеческие трупы… Пожалуйста, сохрани эту картину на память о последнем лете моей невинности!
Не слишком внимая шепоту листвы, живописец поглаживал короткими пальцами окладистую густую бороду, склонял голову к плечу и наносил на полотно последние штрихи. Эдаким небрежным триколором была изображена на его пейзаже прибрежная растительность: у самой воды кусты ракиты с красными, словно воспаленными прутьями, над ними березы – насыщенной зеленой полосой, и на дальнем плане – сплошной синей окантовкой вершины сосен, поднимавшихся там, где кончалась пойма реки.
Более тщательно в самом центре полотна был изображен мост из еще не потемневших тесаных бревен. И хоть это практичное сооружение вряд ли украшало естественный пейзаж, художник, видимо, ни на шаг не хотел отходить от натуры, открывавшейся ему с избранного для работы пригорка. Он тщательно зарисовал не только мост, но и прикрывавший его «тет-де-пон», состоящий из двух недостроенных редутов, соединенных ретраншементом. Белые пятнышки вдоль этих земляных сооружений обозначали тех, кто их возводил.
Горячее июньское солнце поднялось в зенит. Именно это время суток и хотел изобразить художник – нет нужды вырисовывать тени. Он еще раз взглянул на реку, потом на свою картину и, кажется, остался доволен.
Полуденная жара становилась невыносимой, и вскоре рыжий фельдфебель пионерной роты, присматривавший за работами, дал долгожданную команду шабашить. Мужики, согнанные сюда из разных сел Борисовского и Игуменского поветов (которые новые российские власти велели именовать уездами) – артелями шли обедать. Инженерный квартирмейстер, ругаясь на то, что пан плохо обеспечил свою артель харчами, выдал только сухарей на три дня да немного крупы. Ну и не беда, старосаковичские мужики предусмотрительно захватили с собой бредень и еще с утра пару раз прошли с ним ближайшую затоку. Теперь у них была почти готова юшка.
Василь, крепкий мужик лет сорока в истлевшей на широкой бугристой спине сорочке, уже давно воткнул лопату в землю и теперь торопил своего товарища, который продолжал бросать на насыпь сырую землю, быстро превращающуюся на солнце в сыпучую пыль:
– Кончай, Прокоп, все одно отсюда раньше не отпустят.
Прокоп еще раз бросил землю, снял нагретую солнцем истрепанную магерку, вытер ею пот с морщинистого лица и перекинул лопату через плечо.
– Пойдем, – коротко сказал он.
Мужики еще раз взглянули на фельдфебеля, который уже снял фуражную шапку, после чего вовсе перестал чем-то кроме выправки отличаться от мужиков, поскольку его мундир с невыносимо высоким черным воротником уже давно висел на березе на специально выгнутом прутике.
Василь и Прокоп неторопливо зашагали к пригорку – там их артельный кашевар выбрал место для костра. Тот еще суетился возле котелка и просил «трошки подождать». Мужики присели в тенек на траву. Трава была высокая, сочная. Все сошлись на том, что самое время косить. Василь, потягивая своим широченным приплюснутым носом приятный запах, распространявшийся от чугунка с юшкой, исходил слюной и злобой:
– Пока мы тут, вся трава посохнет! А горку этую еще копать да копать!
– Такой спекотой точно посохнет, – обреченно констатировал кто-то из односельчан.
– Домой утеку! И не хватится никто! – расхрабрился Василь.
– А как стрельнут вдогонку? Шалаши, вон, и ночью стерегут.
– Да у них сухари в сумке замест патрона, я видел!
– А я, кабы не так тошно было, – тихо, в диссонанс Василию проговорил Прокоп, сына которого в прошлом 1811-м году забрали в рекруты, – думаю, вдруг для Антоськи моего стараюсь…
– Совсем ты, Прокоп, сдурнел стараться тут…
– А ты бы, Василь, лучше лапти свои помыл.
– Нашто?
– Ты ж не сдурнел – так у пана в хлеву старался, каб твоего малого в солдаты не отдал – лапти до сей поры навозом воняют…
Разгоряченный Василь, казалось, в ответ должен был броситься на Прокопа с кулаками, но он, наоборот, сразу как-то остыл. Прокоп сказал правду. Уйти на двадцать пять лет, а скорее – навсегда – мог его, Василя, сын, а ушел Прокопов Антось.
– Антося твоего и хлопцев, я слыхал, кудысь за Чернигов увели, – словно оправдываясь, сказал Василь, – так что ты тут не для Антося своего, а для этого рыжего стараешься. Пусть бы они, москали, сами и копали.
– Хорошие слова, ей богу, хорошие слова! – вдруг вмешался в разговор какой-то незнакомец. Мужики не заметили, как он подошел к ним и остановился в нескольких шагах за их спинами. Наружность незнакомца была не совсем обычной, это, конечно, был не крестьянин, не военный, местные шляхтичи тоже одевались не так. На всякий случай мужики встали и сняли шапки. Перед ними стоял невысокий полный человек с круглым лицом, на котором едва были заметны маленькие глаза и короткий нос, зато выделялась густая черная борода, скрывавшая всю нижнюю половину лица. На нем была широкополая соломенная шляпа, тонкая белая рубашка, жилет, черный галстук, не будь которого, можно было бы подумать, что у этого человека вовсе нет шеи.
В одной руке человек держал свой сюртук, в другой – какой-то плоский крашеный ящик.
– О, садитесь, я вовсе не знатный господин, – поспешил остановить поднявшихся с земли крестьян незнакомец. – Я простой художник. Простите, что вмешался в вашу беседу. Только я слыхал, что скоро ваших детей не будут забирать в рекруты. Вы ничего об этом не знаете?
Конечно, я ведь в отличие от вас много путешествую, пишу портреты самых разных людей. Портретист как цирюльник – всегда узнает от клиента все новости.
Пока мужики тихонько спорили, что такое художник – ксендз, землемер или очень богатый еврей – Прокоп решился обратиться к незнакомцу:
– Садись, добрый человек, юшки с нами похлебать. А верно это… про рекрутчину?
– Да уж не знаю. Только кто же ваших сыновей в рекруты будет брать, если русские уйдут отсюда за Смоленск?
– Нам никто не говорил, что москаль уходить будет. Вон лежит рыжий, никуды не собирается, – сказал Василь, кивнув в сторону попившего кваску и задремавшего фельдфебеля.
– А чего ж вы тут для них рвы копаете? Стало быть, боится царь Александр. Императора Наполеона боится. Слыхали о таком? – серые глазки художника забегали так, словно быстротой движения должны были наверстать то, что потеряли из-за своего маленького размера. – Он уже и австрийского и прусского императоров из Польши выгнал, и царя Александра из Литвы выгонит, если возьмется. Будет здесь снова Польша. Воевать, как прежде было, станет шляхта, не будет рекрутчины.
Художник сделал паузу, пытаясь определить, нравится ли мужикам то, что он говорит. Но худые, выдубленные ветрами лица крестьян не выражали, казалось, абсолютно ничего. Можно было подумать, что они не понимают незнакомца, хоть тот и говорил на их родном языке, смешанном с понятными мужикам польскими словами. Разве что молодой кашевар выглядел настороженным, но эта настороженность скорее была вызвана тем, что он только что попробовал свою юшку.
– Это ты пану нашему рассказывай. А нам что Россия, что Польша, что Неметчина – все одно мы подневольные.
– Не все одно, пан Василь! Наполеон всем даст волю. Везде давал! Бесплатно, как сейчас, никто вас работать не заставит!
В ответ мужики вдруг опять поснимали шапки, и художник услышал, что за его спиной кто-то насмешливо сказал по-русски:
– Что же ты, мужик? Опомниться не можешь, что паном тебя назвали? Надо не слушать его, а вязать.
Художник, сказав «позвольте!», обернулся. Перед ним стоял высокий молодой человек в сверкающих сапогах, в дорогой белой рубашке с расстегнутым воротником, смуглый, с въедливыми наглыми глазами покорителя женских сердец и добродушной ямкой на широком подбородке. Словно хлыстом, он играл веточкой рябины. Его внушительной величины ноздри весело раздувались.
– Позвольте, – сказал художник, – какое вы имеете право говорить обо мне с таким пренебрежением?
Его глаза перестали бегать и изобразили неподдельное возмущение.
– А какое вы имеете право подстрекать крестьян к бунту?
– Я никого не подстрекал! Вы придумываете что-то несуразное!
– Я все слышал, вы просто несколько увлеклись и не заметили, как я присоединился к вашим слушателям, которые должны были связать вас и сдать военным властям.
– Я просто рассказывал этим людям, что в других странах подобный труд оплачивается.
– Полно! Эти люди могут повторить ваши слова. И вообще, что вы делаете здесь, на строительстве военных сооружений? Ну-ка, предъявите ваш этюдник! Ага… Так и есть! Вы зарисовали все: и редуты, и мост, и ретраншементы!
– Какая чушь! Это пейзаж!
– Об этом мы с вами поспорим в ином месте. Прошу вас! – выражение лица высокого молодого человека вдруг стало чрезвычайно строгим.
– Позвольте, но я художник, моя фамилия Зыбицкий, я австрийский подданный, я имею диплом, подорожную…
– Будьте любезны.
– Извольте…
Пока важный незнакомец вертел в руках документы австрийского подданного, тот продолжал оправдываться:
– Несколько дней назад я был в Вильно и получил заказы от некоторых местных помещиков. Я сейчас направляюсь к ним писать портреты. Это может подтвердить, например, господин Сакович, который ждет меня у себя сегодня. Вполне естественно для художника остановиться в столь живописном месте и сделать наброски…
– Господин Сакович, вы говорите? – переспросил незнакомец, переставший обращать внимание на слова художника, как только услышал эту фамилию. – Константин Сакович из села Старосаковичи?
– Да, – удивленно ответил художник, озираясь по сторонам.
Этот ответ вызвал у высокого господина целую бурю восторга.
– Ха-ха-ха! Солитэр! Славно складывается пасьянс! Все одно к одному! – хохотал он, и его короткие усы задорно топорщились. – Вам повезло, господин шпион, нам по пути. Сначала я думал сдать вас ну хотя бы командиру этой пионерной роты, но раз вы направляетесь в Старосаковичи, к пану Саковичу, то поедем вместе… Эти пионеры-землекопы еще упустят тебя, чего доброго. А в Старосаковичах ты мне пригодишься. Ваши документы я пока оставлю себе.
– Но какое вы имеете право? Кто вы, собственно, чтобы распоряжаться?
– Я занимаю важный пост при главном штабе. Надеюсь, вам этого достаточно? – сказал господин, на минуту придав лицу прежнее выражение напускной важности, после чего он продолжал говорить с таким видом, будто художник должен разделять его радость: – А ведь я подошел сюда только потому, что распорядитель работ сказал мне, будто тут обедают старосаковичские мужики. Мне нужен был проводник, а фортуна повернулась так, что довелось поймать бонапартовского шпиона и к тому же друга господина Саковича!
– Не смейте называть меня шпионом! Если ваш чин дает вам право проверять мои документы, то вы это сделали. Вы убедились – мои бумаги в порядке, так что на сим…
– То-то, что бумаги. Паспорт сами рисовали, месье портретист? Паспорта иностранцам сейчас более чем на один месяц не выписываются, а у вас он действителен на четыре! – с каждым произнесенным насмешливым господином словом его «пост при главном русском штабе» словно становился все важнее и важнее.
– У меня подорожная за подписанием литовско-виленского губернатора Багговута…
– … В коей тоже ничего не говорится о том, что вы следуете на переправу через Березину с целью снятия плана фортификационных сооружений, – продолжал куражиться важный господин. Дав понять, что спорить с ним бессмысленно, он обратился к перепуганной артели:
– Что, мужики, вы действительно крестьяне пана Саковича?
– Так, пан офицер, – ответил Прокоп.
– А кто из вас хочет домой?
Мужики настороженно молчали.
– Не думайте, сюда вы уже не вернетесь, я все устрою. Да вот ты, носатый, – обратился он к Василию, – покажешь мне дорогу к твоему пану? В коляске поедем.
– Отчего ж, коли вы с начальством тутошним устроите…
– Да я уже договорился. Так что обедай, а я тебя жду в коляске, вон она, у самого моста. А вы следуйте за мной, господин Зыбицкий.
– Но я уже нанял еврея с повозкой, я ему рубль должен… – пробормотал художник, понимая, впрочем, что при этом он даже не за соломинку хватается, а за воздух. Рубль, на который даже бутылку шампанского в виленском ресторане не купишь, никак не остановит решительного господина.
– Вам повезло, с этой минуты вы переходите на казенное содержание! – снова мрачно пошутил тот и извлек из кармана ассигнацию.
Словно из-под земли или из другого кармана принявшего на себя казначейские обязательства господина вдруг возник еврей в отвратительно грязной черной не по погоде хламиде. Он уже принес саквояж художника.
– Мы серебром уговаривались, прекраснейший пан… – достаточно твердо возразил он на ассигнацию.
– Если ты, Лейба, будешь кривить свою отвратительную пейсатую рожу, я вместо ассигнации выпишу тебе расписку, и ты поедешь за своим рублем в Вильно. Через год.
– Лучше ассигнацию, добрейший господин! – принимая деньги, признал свою ошибку владелец повозки, как-то недобро глянув на офицера, но тут же согнувшись перед ним в три погибели.
– Я ж казал – сегодня домой утеку, – подтолкнув Прокопа локтем в бок, тихо сказал счастливый Василь.