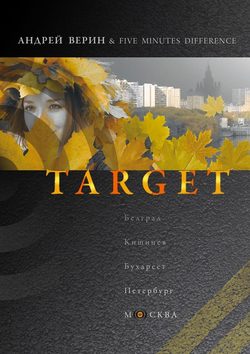Читать книгу Target - Андрей Верин - Страница 4
КОЛЬЦО ПЕРВОЕ – БУЛЬВАРНОЕ
3. ИЗМЕНА
ОглавлениеЕй нравился «Белград».
Хоть и трехзвездочный, с по-ульевому типовыми номерами, с тесными подсобками и клаустрофобическими коридорами без окон. Он представлялся не отелем ей, но пароходом, шедшим по волнам Москвы-реки, пришвартовавшимся у Бородинского моста. Здесь на ресепшн девушка в чуть ли не капитанском кителе – оживший образец американского pin-up пятидесятых – телеграфирует морзянку кнопкой мыши в радиоэфир другим гостиничным судам. Здесь не шоссе шумит внизу – вода под лопастями колеса, и шинный шорох влажен, перекрестки широки, как плес. И белые бегущие огни – то пена волн белеет в лунном свете, а красные – то искры с дымом вырываются из труб, летят недолго, гаснут. Под утро шинный плеск стихал, и вот уже казалось ей, сидевшей в зале ресторана за бокалом, будто не пароходное, но мельничное колесо вращается под зданием, перемежая в черных водах ряску и кувшинки с сильными стеблями, переплетая в струях волосы русалок, искры чешуи. Тогда из выходящего к Москве-реке окна слышался ей озерный дух и серебристый шум осин, и голос пушкинского старика: «Какой я Мельник, говорят тебе, я ворон, а не Мельник».
Здесь ее знали как Марию – тривиальную, легко терявшуюся меж иных женских имен на «М». Еще недели три тому назад предпочитала «Марту» (тогда, решив не мудрствовать, назвалась в честь месяца, что на дворе стоял). Немало было псевдонимов у нее для жизни на свету, а для ночной жизни – тем паче. Никто не знал того, но именно отели были подлинными ей любовниками. Высокий, статный, залихватски-ухарский Белград Карагеоргиевич – серб кровей королевских (помните, как это у Маяковского? «…выбряцав шпоры в горящей мазурке, выкрутить русый ус!»); Жан-Жак Амадей Метрополь – импозантный француз с сединой, с любовью к импрессионистам, золотые запонки, шелковое кашне, шевроле у подъезда; Фридрих Националь – немец времен Австро-Венгрии, в двубортном элегантном пиджаке, все пуговицы наглухо, и выправка военная. Арабский шейх Арарат Парк Хаят; американец Рэддиссон и англичанин Шератон Палас; Марриотт Гранд – шотландец. За это именно любила беспокойную свою гостиничную службу – за сумасшедший ритм смешения эпох и вех, судеб и стран, имен и персоналий.
Что до отеля на Смоленской, то его как окрестили, так он и поплыл: Белград-отель качал ее в двуспальных шлюпках номеров своих, но между тем, вторя пороховой судьбе Балкан, в нем чуть не с самого дня основания шла собственная непровозглашенная и негасимая война. В мраморном холле под витражной полусферой зияли выбоины от незримых пуль, стойка портье служила бруствером, и многие сотрудники, став жертвами слепого рикошета, сложили головы, иначе говоря – забрали трудовые книжки. Отель был полон драм, скандалов и разводов. Мария не смотрела мыльных опер, равно как и криминальной хроники – хватало наблюдать течения гостей (холодные и теплые, глубоководные и «чертовы» – те самые, что близ Константинополя сносили, не давая к берегу пристать, суда захватчиков).
Вот и вчера, припомнила Мария, все было не слава богу. С утра въехал болгарский журналист с любовницей, а ввечеру и благоверная нагрянула, что фурия, Эриния, и долго во дворе лежали розы, вышвырнутые из номера, возложенные на могилу верности. Туристы из Тираны приняли за оскорбление, что персонал не может обслужить их на албанском, подняли цыганский гвалт. Венгр вселился в люкс, взъярился: слишком женский номер! – учинил скандал. А делегация уфологов Румынии сочла: окна апартаментов должным образом не защищают от инопланетной интервенции, потребовали номер бизнес-класса.
Должно быть оттого, что стольким путникам служил приютом, Белград сделался средоточием различных искривлений – времени, пространства, линий судеб. Мария верила рассказам персонала, что, бродя бесцельно коридорами в темное время суток, можно угодить, неровен час, в прошлое и оказаться, скажем, в подлинном Белграде накануне первой мировой или же на извилистой стамбульской улице, ведущей к приснопамятным проливам, на какие, как предсказано, России до конца времен только облизываться да смотреть издалека – глаз видит, зуб неймет, и не помогут русско-турецкие войны, сколько бы их ни было.
Но все бы ничего, когда б минувшей ночью здесь не разразилась подлинная катастрофа.
Когда наутро суматоха улеглась, она переоделась: белая блузка и жакет цвета лимонного сорбета, юбка-карандаш – черная, как те мандельштамовы носилки, на которых вчерашнее солнце несут. Взяла фруктовый блеск для губ, духи Eau d’Hadrien и выглядела на пять звезд (побольше, чем у самого отеля на Смоленской). И все бы хорошо, когда б ни эти синяки… полбанки крема, пудры изведешь, а проступают наново, печалилась она, сидя за чашкой утреннего кофе в ресторане и кусая губы. Была из тех, кто кофе пьет не вкуса и не пульса ради – ради субкультуры. В каждой миниатюрной чашке кофе, побывавшего напитком запрещенным и священным, содержались добрые полмира, вся колониальная политика, йеменский шейх Абд-аль-Кадир и монополия арабов, Каир, Дамаск, Багдад, константинопольская первая публичная кофейня и первая парижская кофейня Le café Procope, венецианские купцы и венский кофе, захлестнувший некогда Европу; обилие кофейных словоформ времен петровского правления в России: кофий, кохей, кефа, кофь и кофа, какой не «выпить» – только «выкушать» или «откушать». Проклятый именем Аллаха в Мекке и благословленный Папой в Ватикане, «сон отгоняющий напиток», «опьяняющее зелье дьявола» и «черная кровь турок», кофе пережил всех тех, кого по его милости казнили, отлучали и обогащали, тех, кто бесплодно восставал против него и кто его прославил, и все затем, чтоб оказаться этим утром в чашке у Марии – уже от этого частило сердце.
Между двумя глотками и между двумя сердечными ударами Мария поняла, что через залу ресторана направляется к ней молодая женщина, которую она прежде не видела в отеле. Холеная, лет тридцати, в накидке-кейп без рукавов. Женщина подошла к Марии, опустилась на соседний стул без приглашения, села вполоборота к ней, хотя свободных столиков кругом было довольно, и, вынув шпильку, распустила волосы, льняные и необычайно длинные. Достала гребень, принялась расчесывать за прядью прядь. Если Марию то и дело сравнивали с женщинами Климта – долгими, ломкими, статичными, – то с этого лица глядели персонажи Врубеля – со всею страстью и надрывностью его грядущего безумия.
– У вас здесь мило, – молвила непрошеная собеседница, как если б отпускала похвалу хозяйке. – Хоть и не пятизвездочный отель из тех, где и шампанское шипит: «Редиссон-сасс…», но все же – очень мило.
Мария улыбнулась сдержанно, а гостья продолжала:
– Сербы известны своим культом кофе, грех не попробовать его в Белград-отеле. – Махнула официанту и, кивнув на чашку в пальцах у Марии, просила то же. – Хотя из каждой чашки кавы отражением глядит на серба турок, вам не кажется? Константинополь, хоть омусульманенный, сербов манит по-прежнему – так привораживает первая любовь, даже когда выходит замуж и меняет девичью фамилию на мужнину. И, да простит меня братский народ наш, но, по мне, стамбульская Ая-София, изнасилованная четверкой минаретов, и белградский храм Святого Саввы – чем не супружеская пара? Берите больше: вся история Белграда и Стамбула – чем не пример адреналинового брака? Как молодые, что бранятся-тешатся и бьют посуду, эти двое крушили города, сажали на кол, завоевывали и порабощали. Есть что-то донельзя хрестоматийное в двоих, пусть и не людях, городах, что так несхожи, так враждебны и все-таки обречены на близость, не находите? Кстати, не знаете, что здесь за суматоха приключилась ночью?
Как было ей не знать?
Андрей, с которого все началось, в Белграде объявился вечером, ближе к полуночи. Она заметила его, едва он показался в отворившихся дверях. На взгляд со стороны, непримечателен, одет под мизантропа, засидевшегося на студенческой скамье (как если бы Родя Раскольников был при своих идеях, но и при деньгах еще), в одном флаконе оверсайз и гранж (нет-нет, поправилась, то истинно-бродяжническое, чему и подражает гранж: джинса, тертая не дизайнером, а жизнью, ворот ветровки поднят, край рубашки выпущен). То же и на лице его – бессонница и кофе, кофе. То ли под дозой и на пике моды, то ли под градусом на полпути на дно. Из зала ожидания вокзала, видимо, где слишком затянулось ожидание. Впрочем, московские вокзалы таковы, что если засидится кто, засмотрится на зеленью болотных огоньков горящие табло, сам не заметит – канет в забытье столицы. Андрей, не видевший ее, спросил портье, не знает ли тот человека по фамилии Трнавац. Как было не знать? Но кто бы знал, чем обернется…
Нельзя сказать, чтобы она радела за гостиничную репутацию, как за свою, но все же… Скандализованность в пикантных дозах на руку отелю. Только не в этот раз. И, отвечая незнакомке на вопрос о происшедшем ночью, Мария соврала, пожав плечами: впервые слышу, мол.
А гостья не глядела на нее.
– Все говорят: уборщик ваш ночью нанес увечья гостю, и его забрал наряд полиции, а гостя – скорая. Увечья… – Тихо рассмеялась, проводя гребнем по волосам. – А может, попросту убил?
Мария вздрогнула: догадка в яблочко. Догадка ли?
Где только на Москве ни колядуют! Первая колядка белокаменной: «Подайте, Христа ради, люди добрые!» и вариации ее: на хлеб, на операцию, на водку, на билет. Другую пресловутую – «Дай погадаю!» – нынче слышишь редко – столичные цыгане обленились, не гадают больше, клянчат поголовьем цыганят, берут числом. Коллекторы с колядками угроз пороги обивают, обрывают телефон, сектанты под дверями славословия поют, мошенники показывают чудеса гипноза, ловкость рук, афганцы ходят по вагонам и поют куплеты под гармонь. Как сербский колядующий на утро после Божича, полуязыческого рождества, врывается в избу с мороза – в медвежьей шкуре, раскосматившийся, клочковатый, с козлиным белым черепом поверх лица – так и безумный югослав Трнавац появился как-то за полночь, недели две тому назад, в Белграде – в черном изодранном пальто, взлохмаченный, с лицом, бескровным от испуга, как человек, сбежавший от войны или из зоны бедствия. На вид под сорок, с мятым от морщин лицом, что прежде ладно складывалось, видимо, в улыбку, а теперь застыло маской страха. Все еще красивый, но заметно опустившийся. Что-то бессвязно бормотал на сербском и в здании гостиницы искал убежища, какого стоило просить в посольстве. Его хотели выдворить, но в память русско-сербской дружбы расквартировали до утра в подсобке. Наутро югослав ушел, но возвратился к вечеру и возвращался всякий день, точно прикормленная псина – к заднему крыльцу продмага. Его гоняли – безуспешно. И скоро югослав стал пригождаться – в роли мелкого гостиничного порученца, лобби-боя и уборщика. Не первый в штате нелегал и не последний, рассудили свыше.
И все бы ничего, когда бы не омонимы. Созвучье братских языков было коварно – схожие слова разнились смыслом. Русское «лучше» оборачивалось сербским «боле», меж тем как «больше» становилось сербским «више», «выше» превращалось в «горе», «горе» – в «жалост». Русская «скула» выпячивалась сербской «ягодицей», «дом» разваливался «кучеj», а «дверная ручка» «квакоj» прыгала на языке, и серб в попытках пантомимничать был уморительно смешон. Чаще всего твердил он о какой-то бане. Или о баннике… А то и вовсе сумасбродствовал: звонил в аэропорт узнать, когда ближайший на Москву. Повадился ходить к Кремлю, где, говорят, подолгу мог стоять возле Беклемешевской башни, к Христу Спасителю, к Большому театру. Бродя по улицам, он, говорят, был странен: касался стен, как проверяют прочность, глядел сычом и грел дыханием ладони, плотней запахивался в зябкое пальто, о чем-то жарко спорил сам с собой. Мария опасалась затаенного безумия в его глазах, будто остановившихся на некой трудной мысли, глядящих сквозь вощеные гостиничные интерьеры. Казалось, что, как Пенелопа, ткущая до ночи, Трнавац день-деньской выстраивал вокруг себя Москву кирпич за кирпичом, свыкаясь с жизнью мегаполиса, но еженощно город рушился, грозя похоронить его в руинах.
Так и вчера под вечер югослав, забившийся в пальто, как в ненадежное жилище, за полночь возвратился от Кремля. Портье кивнул Андрею: вот, мол, тот, кого вы ищите. Андрей приблизился к Трнавацу, что-то сказал и передал ему конверт. А час спустя на пятом этаже уборщик задушил американского жильца и забаррикадировался в номере. Американец тот, надо сказать, тоже чудил: купил в Измайлово на вернисаже шлем и форму натовского летчика (а там, известно, можно все купить, хоть подлинный скафандр Гагарина) и в этом виде возвращался с вечеринки ниже этажом, изрядно окосев, автопилотом, three sheets to the wind, как говорили у него на родине, и – вторя идиоме – волочил за собой простыню парашютом. Бог знает, что не поделили в узком коридоре югослав с американцем. Охрана вызвала наряд полиции, и югослава увезли. Но не рассказывать же первой встречной обо всем этом гостиничном исподнем, думала Мария. Впрочем, теперь уже казалось ей, что гостья знает больше, чем весь персонал «Белграда».
А собеседница меж тем небрежно заколола волосы, взялась за кофе и произнесла:
– Знаете, милая, что сербы – чуть ли не единственный народ, который любит русских. У сербов даже поговорки есть: «На небе Бог, а на земле – Россия» и «Вместе с русскими нас двести миллионов». Во времена турецкой оккупации, если рождался мальчик-серб, дед поворачивал его к востоку со словами: «Там восходит солнце, там – Россия!» Для серба ничего нет краше дома, потому-то русский для него есть что-то небывалое: серб смотрит с изумлением на тех, кто едет на войну, не будучи к тому обязан, и едет весело, бравурно, с песней. И оттого серб видит в русском существо из сверхъестественного мира, жителя луны, быть может, или солнца. Для серба нет различия между войной и преисподней, и вдруг он видит: в этот ад, от мысли о каком у серба делается холодно на сердце, русские готовы отправляться веселее, чем домой. Отсюда и его, серба, благоговение пред русским и готовность все отдать, чего бы тот ни пожелал. Не знает серб, как подступиться к этому прекрасному и страшному созданию, идущему на войну добровольцем. Во время натовской кампании русских десантников встречали в Косово цветами, целовали руки им, хотя тот русский батальон не значил ничего в военном отношении. Тогда Россия изменила Сербии и отказалась поставлять им установки ПРО, как отказала и в союзе. Поверившие в мощь и помощь русских и оставшиеся в Косово, сербы были истреблены албанцами с особой, пыточной жестокостью, убитых потрошили ради сбыта органов на запад, и в итоге из числа тех, кто встречал десантников, в живых остались единицы.
И вдруг, глядевшая доселе в сторону, гостья вся подалась вперед и глянула в глаза Марии:
– А рассказать вам, милая, что с этим югославом дальше станется? Ведь вы его еще по Метрополю знаете, когда и он, и вы были куда как респектабельней, не правда ли? Помните, вы с ним говорили в ресторане о Балканах и о перовой мировой? Не вы ли, милая, и заронили ему в голову тень сумасшествия?
– Откуда вы…? – Голос Марии поскользнулся на последнем слове и сорвался в сип. – Откуда знаете?
– Месть, милая. Ко многим знаниям-печалям приводит человека месть. Да вы, поди, и сами не из всепрощающих. И этот ваш отель… Тот еще замок Ив, если подумать. Пусть, что трехзвездочный и омывается Москвой-рекой – глубокие реки тихо текут. Мой вам совет – не связывайтесь с сербами. – Гостья глядела на Марию, улыбаясь, как из-подо льда. – Сербы воспламеняются легко да быстро холодеют. И очень скоро угольно горящие глаза их станут по вам только сажей мазать, глядя мельком. Вся похоть у них – походя. Их сербское «любити» означает вовсе не «любить» – всего лишь «целовать», а поцелуи сербов дешевы и машинальны, как у нас рукопожатия.
Взгляд отвела и пригубила кофе. Только тогда Мария вспомнила, как дышится, как тот, кто чудом вынырнул из полыньи. Сидевшая подле нее сказала безучастно:
– Теперь отправят вашего Трнаваца, волею рока, на психиатрическую экспертизу не куда-нибудь, а в институт имени Сербского – здесь рядом, у Смоленского бульвара. Поставят там ему диагноз с номером F20.2 – кататоническая шизофрения. Там, в институте, станет заниматься им профессор Фрейдин. Вначале это имя вызовет у вашего знакомца беспокойство, чуть не до панической атаки. Однако же, увидев Фрейдина (профессор, надо полагать, благообразен, как на черно-белых фото из Большой советской, сухощав и сед), Трнавац без уколов успокоится. А после вовсе станет день за днем все больше окаменевать в кататонии. Профессор попытается, по доброте душевной, расшевелить его беседами о Сербии, тамошних нравах и обычаях, но, видя тщетность человечности, отдаст Трнаваца во власть одних медикаментов. На родине жена заочно разведется с вашим югославом и к тому времени, когда оформят депортацию, уедет из Врнячки Бани, заберет детей. И водворят Трнаваца по факту недееспособности в одну из тех чудовищных сербских психиатрических больниц, освенцимские фото из которых так пугают интернет-общественность.
Гостья опять взглянула на Марию – с тем прищуром, с которым, локоть уперев в колено, губами припадают к мундштуку и щурятся от дыма. Спросила неожиданно:
– Как вас зовут?
И так же неожиданно, против обыкновения, Мария ей сказала правду. Ждала насмешки, только визави не рассмеялась, а задумалась, как тот, кому надо распробовать навое блюдо. Сказала наконец:
– Недурно. Я знала человека с именем Беслан, но ваше лучше.
А после выкинула штуку: подсела ближе, приобняв Марию, и приблизила лицо к самому уху, чтобы прошептать ей нечто. Мария обмерла. Со стороны казалось, будто две подруги (на лицах натяжная радость, призванная скрыть натянутые отношения), встретились и замерли в приветственном объятии. Но больно долго длилось то объятие. Когда же кончилось, Мария поняла, что больше никого нет подле, кофе у нее давно остыл, а в чашке собеседницы на дне легла черной свернувшейся кофейной кровью гуща. Вошедшая по-маяковски истинно, как «Нате!», визави ушла, как тать – невидимо-неслышно. Точно явилась лишь затем, чтобы прочесть недостающее о сумасшедшем югославе по кофейной гуще и, взглянув на глубину его падения с усмешкой, незамеченной уйти.
Только в ушах Марии оставался ее шепот, звучавший как змеиный шип: «А этот юноша, Андрей, он вам понравился, не правда ли? – В том шепоте была слышна улыбка заговорщика. – Вы любите его? Кого люблю, того и убиваю. Логика женская, житейская, железная. Вы так похожи на меня, что берегитесь, милая. Не суйтесь в мои омуты, в них брода зыбки, топи глубоки. И черти водятся».