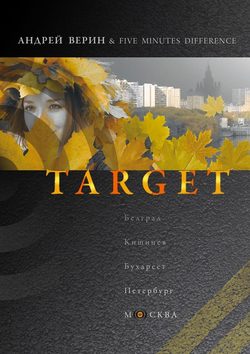Читать книгу Target - Андрей Верин - Страница 9
КОЛЬЦО ТРЕТЬЕ – САДОВОЕ
2. ВАГОН-РЕСТОРАН
ОглавлениеВечером накануне Валентину долго не спалось. Чем больше удалялся от столицы поезд 045М «Москва – Кишинев», тем глубже уходил в снега, какие и не снились парнику первопрестольной. Купе раскачивалось колыбелькой, и под погремушечный стук рельсовых стыков Дочиу наконец-то задремал. Но скоро пробудился от неясной, призрачной тревоги – в замершем вагоне. От темноты и тишины Валик не сразу вспомнил, где он. Ощупал полку под собой, нашарил чемодан под столиком. Сообразил: должно быть, встали на скрещении и пропускают скорый или товарняк. Но выпотевшая на лбу испариной тревога не исчезла. Прощупал изнутри себя и понял, что» его тревожило всю ночь: кольцо. Куда-то еще с вечера пропало обручальное кольцо.
Как некоторые растут среди домашнего скота, так Валик Дочиу рос подле поездов, бок о бок с ними.
Когда еще был зорок до того, что различал все семь сестер-Плеяд или, как звали их еще, Стожаров, уже болел железной лихорадкой. Мальчишкой он степными непроглядными ночами, где звезды выжигали на сетчатке силуэты Ориона и Большой Медведицы, смотрел, как поезда идут в ночное, у каждого во лбу – звезда-прожектор. Поезд для Валика был жив, одушевлен, хвостат и полон лошадиных сил, с дымом косматой тепловозной головой состава, паром фыркавшей. Как он давался диву, отчего совхозные коровы и бараны столь смиренны и не поднимают бунта даже на пороге бойни, так удивлялся он: когда сумели приручить столь мощное железное животное – локомотив?
Рельсовая стезя была фамильным поприщем для Дочиу, семья жила на чемоданах, кочуя вслед за поездами по просторам бывшего СССР, и каждое распутье в их судьбе лишь оборачивалось новым поворотным кругом в старом веерном депо. Для Валентина с креозотно-гаревой романтикой сливался образ лучезарного отца – в том раннем детстве, когда он еще не разумел отличий между стрелочником, путевым обходчиком или священнодействующим машинистом. Кумир-отец частенько брал его с собой на станцию, показывал кабину тепловоза, говорил о временах, когда был тех же лет, что Валик: о том, как, высунувшись из окна состава на ходу, однажды окунулся головой в струю черного дыма и долго волосы потом не мог промыть, продрать от сажи; как с дедом-инженером они спали на крыльце в жару и он увидел отсветы пожара на стене – вдали на насыпи пылал состав. Рассказывал о железнодорожном фонаре с цветными стеклами, предшественнике семафоров – как вожделел заполучить такой в число своих мальчишечьих сокровищ, долго вынашивал план кражи, выкрал все-таки, но не сдержался и, похваставшись, от деда получил по первое число – ночь на коленках на горохе простоял.
Кажется, еще прежде, чем учиться грамоте, Дочиу-младший знал все виды и рода локомотивов. Знал их устройство до заклепок и болтов. И мать его – возвышенная, тонкая, бог весть как вышедшая за сермяжного отца – дразнила сына Антонином Дворжаком (как Петр Великий требовал с гостей Санкт-Петербурга привозить по камню в северную топкую столицу, так композитор требовал со всех гостей, кто заезжал к нему, описывать локомотивы, на которых прибыли). Но иностранная фамилия для Валика звучала только производным от «двора», не более, подстегивала улепетывать от гамм на улицу. И пока мать, искавшая отдушину меж клавиш фортепьяно, играла пьесы и ноктюрны, сын убегал играть на железнодорожной насыпи.
Все игры Валентинового детства были спаяны с железом, пахли ржавчиной, мазутом, порохом, соляркой. Все, как одна, были убийственны, и Дочиу дивился, как он выжил, как его не запороли до смерти за то, что он подкладывал на рельсы стройпатроны, лазал в трансформаторную будку, по крышам и подвалам промышлял, ходил стенка на стенку с пацанвой соседнего двора, качался на тарзанке (пожарный шланг над сливом техводы с бетонного завода), разбил кувалдой взрывпакет, Корсар-8 взрывал в стеклянной банке, камнями вышибал окна котельной, собирал шприцы по подворотням, жарил голубей. Бил из рогатки по бомжам, а в унитаз бросал карбид (еще – петарды, калий, дрожжи), взорвал колбу с селитрой, с рельсов «костыли» снимал, а клал взамен гайки на шестьдесят четыре. Кидал с крыши арбузы. Раскаленные в костре булыжники бросал в реку с моста (шипели хорошо). Поджег дверь алкашу на первом этаже. Залез на экскаватор, втиснулся в бетонную трубу на стройке, чуть не утонул в хранилище зыбучего цемента. Засовывал транзистор на пятнадцать вольт в трехфазную розетку. Да как ни посмотреть – все удивительно, что жив остался.
Обыкновенно обручальное кольцо Дочиу надевал лишь на подъезде к Кишиневу и тотчас по отбытии снимал, отчего золото сияло новизной, незамутненное, в отличие от совести. Но что поделаешь? Валик был строен, как сосна, красив, как май, и вдалеке от дома долго не сидел без женского внимания, ведь правду говорили у него на родине, что не насытится огонь дровами, не насытится земля дождями, а живущий – жизнью. Совесть его если страдала чем, то нарколепсией – спала, безгласная. Вчера, как сел в вагон, хотел опять надеть, но не нашел кольца. Все вещи перебрал – как не было. И оттого тревожно и тошнехонько было у Валика на сердце. А тут еще состав застыл в железной кататонии, как если бы не трогался еще с платформы на Казанском.
Валик решил перекурить. Оделся ощупью, не зажигая свет, чтобы не разбудить попутчиков, порылся в сумке в поисках початой пачки, и под руку попался талисман, еще одно кольцо – резиновое красное колечко от ханойской пирамидки, подарок дочки перед расставанием: вынула красный бублик изо рта и отдала отцу. Сколько же ей теперь? Два с половиной, два и восемь? Когда он уезжал, еще не говорила. Теперь, поди, вовсю лапочет, бегает. Обыкновенно Дочиу носил это кольцо в кармане – когда была нужда сосредоточиться, сжимал вместо эспандера. Взял и теперь с собой.
Вагон стоял безмолвен, спал. Купе проводника было распахнуто и пусто, дверь на пути – открыта. Стоя на пороге, Валентин втянул морозный воздух, всмотрелся в прорву ночи, в русские заснеженные дали. Им бы проноситься мимо, привлекая взгляд лишь на мгновение, и тотчас исчезать из вида. Так нет же: Дочиу запомнил каждый куст, замерз, а поезд все стоял, недвижный, в чистом поле.
Слишком уж долго. Слишком тихо.
Валик нахмурился: и встречного не слышно, и кругом – ни полустанка, ни души. Впрочем, чего ждать от страны, где рельсы сносит половодьем по весне, а поезда пускают под откос шахиды? Известно: море полно волн, свет – горя.
Однажды маленькому Валику была удача: разжился у соседа дробью. Какую из рогатки сразу не порасстрелял, зарыл в укромном месте про запас да и забыл, где именно. Потом неделю горевал. Теперь, лежа в остановившемся купе, Дочиу повзрослевший понимал: должно быть, между тех дробинок угодило семечко от дерева, но не простого, а железного: маленький мальчик Валик, сам того не зная, посадил его, и дерево проклюнулось, только не ввысь пошло, а к горизонту. Мальчик пустился в странствие по ветке дерева, хотел узнать, что» там, вдали, за степью, как живут в чужих краях, и шел, пока не встретил то сращение, где сходятся все ветки и сплетаются единым транспортным узлом – удавкой МЖД, Московской железной дороги. Той, что веерится по Москве, корнями метрополитена уходя под землю.
Собственный путь между хитросплетений рельсов Валентину начинать пришлось с самых низов, еще не на колесной должности, на пешей – путевым обходчиком. Но железнодорожные пути сделались неплохой карьерной лестницей, и, поднимаясь по ступенькам шпал, Валик добрался скоро и до головы состава, до кабины маневрового локомотива. Училище окончил, стал сперва помощником, затем и машинистом.
Локомотивная любовь была неудивительна в стране Советов с ее романтикой машин, где не сократовский deus ex machina вершил сюжет, но бог-Машина. Если бы Дочиу больше читал, ему пришлись бы по душе слова художника-супрематиста Пуни: «Странное дело, – говорил тот, глядя на Советы из Парижа, – в России по сей день правит романтический машинизм, а сама машина не низвергнута с пьедестала и не заперта еще в музее вместе с классическими образцами».
С годами любование локомотивом не прошло. Дочиу восхищали его, тепловоза, дизельная мощь, нечеловеческий масштаб и вес, его прожорливость (семь с половиной тонн соляры в каждый рейс). Локомотивный генератор, походивший более на батискаф. Два коленвала и цилиндры – ведра, десять в ряд. А лошадиных сил – табун в три тысячи голов. Такие мощности не снились и карьерным самосвалам. Сердце локомотива полнилось романтикой огня и чугуна, с детства знакомой по советским фильмам о бесстрашных укротителях мартеновских печей. Грохочет и визжит дизельно-генераторная установка, воздух вокруг нее тягуч и маслянист, с дымком. Пульс тепловоза измеряет «черный ящик», скоростемер строчит кардиограмму. И в самом слове «тепловоз» – тепло живого существа, способного согреть в сибирский холод, когда электровозы мерзнут, отключенные от линии.
Несколько лет в ведении Валентина были все узлы и агрегаты этого гиганта, тормозная и питательная магистраль, контроль скорости следования на запрещающий сигнал, защита от самопроизвольного ухода подвижного состава. Были бы и теперь, если б история не выкинула вдруг коленце. Костлявое, как изгиб коленвала, оно ударило под дых, чуть дух не вышибло.
Дочиу вырос при Советах и привык считать Союз своей отчизной. Привык к его, СССР, державному течению лесов, полей, степей – земель пустых, а более пустеющих. И вдруг остался за бортом, на малом островке Молдавии – все еще двуязычной по инерции, но уже визовой. Рухнул Союз, его сменили девяностые. Одно время купе стало для Дочиу, что называется – «и стол, и дом»: поездил челноком, шурша клеенчатыми сумками. Но так привык он быть впередсмотрящим, что, втискиваясь в коробок купе, чувствовал себя в чеховском футляре: не столько теснота, сколько тоска давила ему сердце. И скоро бросил пассажирствовать, осел в Москве. Сменил открытые пути на замкнутые кольца златоглавой, на белокаменный мешок ее. С тех пор жил крысой в колесе, бежал на месте. Из года в год ишачил Валентин на подмосковных стройках, бывая дома в Кишиневе раз в три месяца. Но только он решил, что все, шабаш, пора домой, как жизнь вдруг встала вместе с поездом 045М – как если бы какой состав, мчавший на всех парах, свернул на боковую, на пожизненный прикол, в отстойник.
Спать не хотелось. Дочиу решил узнать, что с поездом. Отбросил искорку окурка в снег и зашагал ковровою дорожкой, что красной нитью прошивала поезд, в сторону локомотива. Прошел купейные, СВ, протиснулся узким нутром плацкарты, полосатой от матрасов, колючей шерстяными одеялами, мимо голов и пяток спящих. И обнаружил за очередной тамбурной дверью вагон-ресторан. Тот полнился людьми. Кухня и бар были закрыты по ночному времени, но полуночники тянулись со своим съестным и горячительным – курить, строить догадки, отчего стоим. Кто-то окликнул Валика, и, оглянувшись, Дочиу увидел своего соседа по купе. Румяный бородач, его недреманный попутчик, привстав из-за стола, махал рукой зазывно. Хотя одет был бородач в толстовку и трико, а кепки вовсе не имел, изрядно походил на ряженого Ленина, каких Валик встречал на Красной площади в избытке. Попутчик был навязчив, говорлив, и, присмотревшись к нему накануне, когда только обустроились в купе, Валик решил: этот и черта вынет из земли. Даже фамилию толстяк имел с сернистым преисподневым душком – Шай-Таньский.
Обыкновенно на людях Валик предпочитал молчать, быть кантовской вещью в себе – себе на уме человеком. Недаром говорили у него на родине: будь, как журавль, бдителен, журавль держит в клюве камень, чтоб неосторожным звуком не привлечь врага. И Дочиу в кампаниях лишь улыбался: мол, знавали мы и не таких говорунов; а на щеке его шрам от клыка собаки, в детстве клацнувшей зубами подле самого лица, терялся оспиной среди мимических морщин.
Дочиу сел к Шай-Таньскому, тот просиял и водрузил на стол серебряный куль курицы в фольге, хрестоматийный, как колесный перестук. Зашелестел оберткой.
– Однако, видит Бог, не врут приметы. Давеча, Валентин, я на перроне, аккурат у нашего локомотива, видел человека с фотоаппаратом. Скверная примета! – сказал толстяк, живо разделывая тушку.
Дочиу парировал:
– Фотографировать локомотивы – верная примета быть в участке. Вокзал – объект военный, как-никак.
Шай-Таньский пропустил мимо ушей рациональный довод.
Дверь отворилась снова, и в вагон вошел второй попутчик Валентина – мрачный молдованин-дед Ион Палади, от которого только и слышал Дочиу, что всех мужчин в его роду зовут Ионами в честь колдуна старой Москвы. Колдун тот проклял некогда Царицыно, посыпав солью земли близ дворца, так что веками ни одно строение там долго не держалось. Ион божился: до сих пор в лунную ночь можно увидеть, как блестят в траве вокруг царицынских прудов кристаллы соли. Палади говорил большею частью на румынском, матерком, пересыпая брань отчизны русскими приблудными словами. Но оба языка звучали у него с таким акцентом, что хотелось переводчика.
– Мэй! – салютовал Ион кургузой лапой, грузно опустился на сидение к бородачу и вытащил чекушку из-за пазухи.
– Что ж, господа, как Бродский завещал: «…В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад», – провозгласил, задвигавшись к окну, Шай-Таньский. Взглянул приязненно на водку. – За это предлагаю выпить!
Сказано – сделано. Явились чайные стаканы, и содержимого чекушки чуть хватило – разлить до края подстаканников, так что казалось издали: трое господ пьют чай, разве что чокнулись сперва с негромким стуком мельхиора.
– Вот помню, ехал я как-то на поезде в Новороссийск, – взялся рассказывать Шай-Таньский с аффектацией. – Один болван плевал на ходу из окна, а ведь известно, хуже нет приметы. И что вы думаете? В Чертково встали аж на три часа!
Палади подал голос, подтвердил: действительно, примета дрянь, и в поездах, и на авто, поскольку за окном летит ангел хранитель, и все плевки – ему в лицо. Мол, рассказал о том Иону один высокий чин патриархии, а тот врать не станет. Валик хотел съязвить, спросить, о чем было беседовать потомственному колдуну с церковником, если в УК РФ нет больше ни костров, ни пыток. Но сдержался. Спросил бородача:
– Приметами интересуетесь?
– Да, знаете ли, всем понемногу, – отвечал Шай-Таньский. Салфеткой промокнул лоснящуюся жиром бороду. – Неформальные достопримечательности, новейший фольклор, столичный и провинциальный.
Дочиу ухмыльнулся с тайным самолюбованием. Каким богатым материалом мог бы он снабдить Шай-Таньского. Но нет, решил: с говоруном лучше помалкивать. Лучше остаться подле этого расхристанного типа черным ящиком локомотивного самописца.
В замершем нынче, как под запрещающим сигналом, поезде, Дочиу вспоминал степной простор Союза, вольницу путей (хоть и смыкались к горизонту, рельсы открывали ему все дороги на одной шестой) и братство вагоновожатых, спаянное собственными мифами и суевериями. Известно: дали тепловоз серии «В» – готовься к неприятностям. Деньги на пульт не клади – боком пойдут. Порвать ТУ152 – плохая примета. Езда на четных и на последней позиции – не к добру. В мороз садишься в ЭД2т-0013 ТЧ Перерва – быть простуде. Если на явке ругань, вся поездка будет кувырком. Дождь пошел, а у тебя за спиной пять тысяч тонн и впереди подъем – тоже не зарадуешься. А у проводников примета: класть ключи на стол или ронять трехгранный ключ-спецалку – к ревизорам. И, чтобы отвести несчастье, надо наступить на ключ ногой, прежде чем поднимать – примета от приметы. Много суеверий, всех и не упомнишь. Но исполнять будь добр все, а то не подадут руки коллеги. Валик и курить-то начал оттого, что так велела железнодорожная примета: не посмолишь перед отбытием – в пути не будет счастья. А в рейсе каких только превратностей не встретишь – то старики по шпалам сокращают путь, глухи к гудкам; то вдруг корова застывает соляным столбом; или идет холодная война с подростками – поганцы свинчивают гайки с болтовых стыков, подкладывают под колеса бревна и охотничьи патроны. Еще Бог упаси тебя сказать «приехал» – только уважительное «привезла». Вспомнился Дочиу его старший напарник-машинист – седой не по годам, обветренный и просмоленный дядька, чисто морской волк Мелвилла – исколесивший БАМ и Забайкалье. Тот говорил всегда: «Спасибо, довезла родимая!» – и чуть ли не в колеса тепловозу кланялся. Еще он утверждал, что человек быстрее старится в движении – так в позапрошлом веке думали, что скорость выше тридцати миль в час опасна для здоровья. Дочиу видел правоту наставника, когда встречал вокзальных и пристанционных проституток, горевших на работе, чисто в кочегарной топке, и к двадцати пяти смотревшихся старухами.
– Недавно, говорят, на МКАДе появился призрак, знаете? – спросил Шай-Таньский. – Какой-то сумасшедший ночь за ночью ездит по Кольцу кругами. Поймать не могут, и немудрено: как призрака словить?
– Спидрейсер? – хмыкнул Дочиу: мол, эка невидаль.
– Так он по встречке ездит!
– Да?
– Кто говорит, что наркоманы развлекаются, за долг гоняют. Знаете, как по метротоннелю перед поездом бежать: кто добежал, прощен, а нет – состав размажет, квиты. Другие думают, что это клуб самоубийц – не револьверный барабан, а МКАДовы круги накручивают – где-то, мол, фортуна отвернется, на какой развязке-путепроводе: у съезда ли на Симферопольское или на мосту через Московскую железную.
– Может, автомобильный лунатизм?
Толстяк зыркнул на Валентина маленькими глазками, выдержал мхатовскую паузу. Сказал:
– Всего живучей романтическая версия.
И пояснил: согласно этой версии, водитель – дальнобойщик, списанный в отставку, в пешеходы, и от тоски по рейдам помрачившийся рассудком. С тех пор накручивает он круги по Кольцевой в несбыточной надежде воротиться вспять, как если б МКАД мог быть огромным циферблатом с девятью делениями радиальных трасс, и время на нем можно было отмотать назад, стремительно носясь кругами против часовой. Так, например, решил добавить аргументов бородач, многие верят: если подгадать и ровно в полночь пересечь на МКАДе вешку нулевого километра, что у съезда на Энтузиастов, можно оказаться в пятьдесят шестом году.
– Что до меня, – Шай-Таньский резюмировал, – я думаю, это – призрак авто, попавшего на МКАДе в ДТП. Летучий легковой голландец. Что не горючим движим, а горячей жаждой мести. И колесит по трассе в поисках виновника своей аварии.
Палади понимающе кивнул. Дочиу промолчал. Шай-Таньский жадно ел: так, торопясь, постанывает и кряхтит младенец у груди и негодует – от невозможности поглотить ее всю. Покончив с ножкой, перешел на шепот:
– А знаете, что на задворках трех вокзалов, у локомотивного депо, в святая святых железнодорожников, стоит, сокрыт от посторонних глаз, механический Ленин?
Вообразите, говорил он, поводя таинственно руками в воздухе, и с пальцев капал птичий жир: премудрую конструкцию колесных пар, кривошатунных механизмов, балок, ручек, шестеренок, которую венчает алюминиевый Ильич. Пути к нему никто не знает, кроме единичных посвященных. Рассказывают, будто невозможно описать восторг, который человек испытывает после продолжительных скитаний по изнанке трех вокзалов, когда встречает механического Ильича. А Ленин тот непрост, истинно чудеса творит: общиченным ворами пассажирам возвращает деньги, документы и билеты. А избранным счастливцам – место в жизни.
– Может, и в нашей, господа, судьбе однажды воссияет путеводною звездой лампочка Ильича? – закончил бородач, облизывая пальцы.
«Проще похоронить, чем прокормить», – подумал Дочиу о нем.
Палади, молчаливо слушавший доселе, подал голос – грубый, с хрипотцой:
– А поезд-то того… – И, не найдя более слов, ругнулся на молдавском: – Гнидосу ши ешть! – И сплюнул.
– Н-да, поезд наш стоит что-то долгонько, – поцокал языком толстяк. – Дело нечисто. Дед тепловоза, паровоз – что баня. Ну а по баням, знамо дело, черти водятся. Еще наш паровоз – потомок самоходной русской печки. За печью, как известно – снова нечисть. Наверняка в каком-нибудь плацкартном, где-нибудь на третьей полке домовой живет. Вернее, «поездной». Люди рассказывают, он обычно смирен, если не с похмелья. Но с бодуна может и насолить.
В вагон стекались люди – кто не уснувший, кто разбуженный. Подняли бармена с постели, сунули чаевые за ремень: давай, мол, разливай. Тут сигаретка задымила, там другая. И скоро чинный ресторан стал полуночным баром. Шай-Таньский кликнул бармена, и заказали коньяку.
Тут-то и появилась неожиданная пассажирка. «Всегда без спутников, одна…» Субтильная, рыжеволосая, она смотрелась в этаком вертепе вызывающе. Так вызывали на дуэль за опрометчивое слово. Села от Валентина по диагонали – будто специально для того, чтобы мог лучше разглядеть ее. Сама не глянула на Дочиу ни разу. Впрочем, известно: глаза нужны только мужчинам – чтоб смотреть, а женщинам – чтобы на них смотрели. И Валентин смотрел как миленький. Пусть очи и не синие-бездонные цвели на дальнем берегу, но медные, как илистое мелководье – как если б кто-то положил ей заживо два медяка на веки. И на лице ее стояла отрешенность – решка ли, орел ли, все едино жребий брошен. В таких зрачках не отражается ничто, кроме того, что в них однажды было отчеканено. Так тускло светятся монетки из-под мутных вод фонтанов на Манежной площади. Дочиу понял: эдакую не прельстить обычными уловками, слишком уж много повидала. К ней надо подходить неспешно, осторожно, как локомотив идет на сцепку с подвижным составом.
Рыжеволосая меж тем сидела недвижимо. Грудь не вздымалась от дыхания, и только сигарета в длинном мундштуке дышала дымом, как кадило над прекрасной мертвой ведьмой-панночкой. И все кругом нее было черно и немо. Когда Валик уже уверился, что в киноленте его жизни не один Люмьеров поезд встал, так и не прибыв на вокзал Ла-Сьота, но замерли стоп-кадрами и пассажиры, в тот самый миг актриса-прима повела плечом, согнав с лица щекочущую прядь, вдавила сигарету в пепельницу яростно, как душат. Встала и вышла из вагона.
Шай-Таньский между тем рассказывал, что ни в одном локомотивном депо нет пути номер тринадцать. Что в середине девяностых в Подмосковье как-то раз исчез бесследно пассажирский поезд. Возник, спустя три дня. Приехал к месту назначения. Для пассажиров с машинистами он шел точно по расписанию, только приборы, оказалось, отставали аккурат на трое суток. Еще рассказывал, что машинисты часто видят на путях внезапно возникающий состав, идущий в лоб их поезду, но призрачные довоенные вагоны истаивают при попытке доложить о них диспетчеру. И ежегодно регистрируются новые исчезнувшие поезда.
Все это Валентин слыхал не раз, но сам не видел призрачных составов. Отдернул занавеску и приставил шорами к лицу ладони, вглядываясь в темь. На миг почудилось ему, что поезд плавно тронулся, пополз. Но понял: сам успел набраться коньяком до головокружения. Мелькнула мысль: «Паленый, видно…»
Шай-Таньский вдруг умолк, они с Палади поднялись и двинулись – бочком, бочком – прочь из вагона, уступая место новому лицу. Бритый мужчина в камуфляже сел напротив Дочиу. Валику не запомнилось его лицо, зато осталось в памяти, что незнакомец все вертел в руках спичечный коробок со стертой этикеткой. Только, судя по звуку – «цок-цок, бряк-бряк,» – в том коробке были отнюдь не спички. Дочиу предложил новому визави коньяк, тот отказался. Пристально посмотрев на Валика, спросил, верно ли, что он – Валентин Дочиу. Но Валентин и сам уже не был уверен, верно ли. Полез было за паспортом, но не нашел, в купе оставил, видно. Нашлось одно колечко от ханойской пирамидки. Впрочем, бритый поверил ему на слово и протянул конверт, сказал: «Вот, вам письмо». Валик хотел прочесть, но буквы плавали, и он убрал конверт в карман. Так и уснул – за столиком, голову уронив на руки. Снилось ему, что вместо канувшего обручального кольца на нем другие кольца – что он прикован кандалами к белокаменной: на правой щиколотке Малое кольцо московской железной дороги, на левой – Большое, волочатся за каждым шагом, громыхая ржавыми вагонами, складами и прогнившими мостами переходов станции Канатчиково, Лихоборов, тупиковой Бойни.
Трудясь в Москве, пока еще был при деньгах, Дочиу выбирал жилье всегда подле «железки».
Московская железная дорога – третья река Москвы, со множеством проток и рукавов. Махнула левым рукавом – и разлилось Останкинское озеро, махнула правым рукавом – поплыли лебеди на Патриарших. Ей метрополитен служит подземным руслом, вторым дном. Обычный горожанин видит лишь публичное лицо ее – вокзалы. А дальше для простого пассажира вся железная дорога замыкается либо райком купе, либо плацкартным ульем, где вся страна втиснута в рамочку окошка, чисто в кинескоп. Как гриб, пробивший землю – только половой орган грибницы, расходящейся на километры под землей, так и вокзал – только входная дверь, прихожая. Как костный остов виден только под рентгеновским лучом, так и железная дорога, пронизавшая Москву, словившая ее в стальную сеть, невидима простому глазу, сокровенна, не даром же она – объект повышенной секретности. Все знают МКАД и Третье транспортное, и Четвертое. А Валентин пешком прошел, забавы ради, окружность Малого железнодорожного кольца и собирался в хадж вокруг Большого. Кто-то привык делить столицу кольцами бульварными-садовыми и радиальными Ордынки и Воздвиженки. Дочиу мерил златоглавую межстанционными прогонами.
Московская железная дорога – арматура белокаменной и золотая нить, вживленная в лицо первопрестольной, чтобы не так стремительно дряхлело. Она покажется то тут, то там – рокочущим мостом над Комсомольской площадью или над бирюзовым Белорусским. Стоит чуть присмотреться и прислушаться – увидишь затерявшуюся между рыночных лотков платформу пригородных поездов, услышишь дальний позывной гудка: длинный-короткий – это машинист с помощником приветствуют встречный состав.
Лишь изредка москвич, встав в пробке на путепроводе, бросит взгляд на перепутье рельсов, шпальную чересполосицу, на стойбища товарняков, морзянку семафоров. А Дочиу любил выслеживать железную дорогу, словно загулявшую подругу, угадывать ее по запаху, по звуку. В свободные часы бродил вдоль ее скрытых русел. Отслеживал ее течение по шуму проносящихся составов, шедших на разгон, будто на взлет. Ходил мимо скрывающих ее заборов, как под высоким теремом, в каком живет отрада. Дышал ее парфюмом-креозотом. Отыскивал мертвеющие линии и обезлюдевшие станции, поросшие бурьяном, выкрашенные граффити.
Любил «Канатчиково» как архитектурную мечту об уходящей в прошлое России начала ХХ века. Любил станцию «Подмосковная» с ее музейным комплексом и веерным депо, с ее кинотеатром. И «Воробьевы горы» – первую станцию на Окружной, ныне закрытую: ее пассажирские залы, багажные помещения, контору начальника станции, телеграф, служебные квартиры для персонала и единственный на всей Московской Окружной буфет. Любил станцию «Ленинская», где полузаброшенное здание вокзала – чисто главный павильон ВДНХ в миниатюре. Любил обыкновенные платформы с примечательными именами. Станцию «Космос», выстроенную еще на реактивной тяге первого полета человека на орбиту. Станции «Соревнование» и «Темпы» – в память о тех пятилетках, что в четыре года. Газетные «Заветы Ильича» и «Правду», где местные шутили до сих пор: «Чем дальше от заветов Ильича, тем ближе к правде». Любил станцию «Отдых», где под вывеской фотографировалась молодежь, чтобы затем публиковать фото в аккаунтах своих сетей с припиской: «Я приехал сюда навсегда».
Когда проснулся Валентин, было еще темно, состав по-прежнему стоял. Злачный вагон был пуст, а бармен, по примеру Дочиу, спал за соседним столиком. После хмельного сна сделавшись черта злей, Валик поднялся и пошел сквозь поезд в сторону локомотива, на ходу расталкивая редких пассажиров. Сперва он бойко шел, но скоро заподозрил: слишком длинен поезд. Пошел быстрее, ожидая, что вот-вот очередной вагон окажется последним, но вагоны множились фрактально, как в зеркальном коридоре. Без толку ускоряя шаг, Дочиу их перебирал, как четки, щелкая замками тамбурных дверей. Казалось, что, когда б ни двери, он бы видел бесконечно повторявшийся вагон, в котором он бежит, стоя на месте в железнодорожном зазеркалье. Время от времени он спрашивал у попадавшихся навстречу, какой это вагон, и всякий раз в ответ слышал реалистичный номер – третий, седьмой, одиннадцатый, – но прошагал, казалось, пару километров, и уже сбилось дыхание, саднили ноги, и ладонь пропахла сталью ручек тамбурных дверей, а поезду все не было конца, как если б рельсы изогнулись лентой Мебиуса. Решил вернуться и пошел назад. И уже скоро, за четвертой дверью, встретил в коридоре незнакомку.
Она стояла у окна купейного вагона, глядя незряче в пейзаж. Дочиу встал недалеко, вполоборота к ней. Поняв его намеренья, она нахмурилась, а может, и скривилась. Но не ушла к себе.
– «Она оторвана от солнца», – негромко выговорил Валентин, как мыслят вслух. И пояснил: – Так в Кишиневе говорили бы о вас.
– Благодарю, – откликнулась она скучливо.
– Вы не находите, что мы стоим, облокотясь о поручень, точно на палубе корабля, застрявшего во льдах? Наш ледокол-локомотив вдруг отказал, – понес он первое, пришедшее на ум.
– С чего вдруг пароход?
– Ну как же? Помните, у Глинки в «Попутной песне»? «Поезд мчится в чистом поле. Дым столбом – кипит, дымится Пароход».
Взглянула благосклоннее. И отшвырнула на спину с плеча рыжие волосы – так падает через окно луч солнца на закате, наискось. Должно быть, не ждала от незнакомца подшофе цитат из классики. Дочиу вырос в Кишиневе при Советах, когда и среднее образование еще формировало неплохую общую культуру. Любил пощеголять.
Ответила:
– Нет уж, увольте от морских аллюзий, слишком широки.
Сказала: поезд – нечто камерное, тайное. Набор коробочек, шкатулочек со всякой мелочью и ящичков с секретом – покуда не закроешь предыдущий, не откроешь следующий: где-то порядок, где-то кавардак, но, так или иначе, к ночи все разложатся по полочкам.
– Значит, по-вашему, состав – коробка с человечками? Как у мальчишек – с оловянными солдатиками?
– Да, пожалуй. Пока толпятся с чемоданами в проходах, крышку не закрыть. А если лягут на бок, помещаются.
Дочиу рассмеялся искренне. И незнакомка улыбнулась следом.
– Тогда вот вам еще метафора, – сказал он. – Поезд – пассажирский паззл: здесь всякий раз детальки разные, но пару никогда не подобрать.
– А вы что, пробовали пару в поездах искать? Курортные романы знаю, но чтобы купейные… Разве что – в поездах «Москва – Владивосток»?
Дочиу мог бы ей сказать, что продолжительность купейного романа идеальна: не слишком короток, не слишком длинен, в самый раз. Но, разумеется, смолчал. Чем были для него они, такие, как она? Меньшим, чем незнакомка Блока, неизвестная Крамского – знакомиться не видел смысла, больно коротки были знакомства те, чтоб знать и помнить имена, – мельче засечек на кольце его, сиявшем новизной на безымянном. Кольцо, однако ж, так и не сыскалось, вспомнил он.
Спросил:
– Вы в Кишинев по делу или отдохнуть?