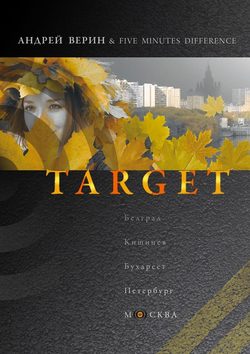Читать книгу Target - Андрей Верин - Страница 6
КОЛЬЦО ВТОРОЕ – КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ МЕТРО
2. ЧАЙНЫЙ ДОМ
ОглавлениеТемный Маниту оказался первой вещью, что Володя Вязилов украл в Чайном доме Перлова.
Как и писал Говард Лавкрафт, Маниту был «мал и массивен, как большая жаба», но весил чуть не пуд. Тщедушный Вова Вязилов изрядно взмок, пока тащил божка в свою мансарду – съемную каморку на Мясницкой.
Провинциал, юный филолог-фольклорист Володя Вязилов копил преданья старины глубокой разных стран не только в летописном, но и в каменном, и в деревянном виде. Нередко хаживал по антикварным лавкам прицениться к древностям, пусть не купить, а только самого себя примерить к вещи, взвесить на руке: как он по ней – не слишком ли молод и зелен? Давно он грезил тем, чтобы найти хотя бы копию Маниту – божка из пантеона племени Навахо, иной раз даже и откладывал с зарплаты. Индейцы почитали Темного Маниту духом злым, а все-таки значительно благоволившим к людям, передающим колдовские знания и даже силу, изгоняющую смерть. Хотя Володя Вязилов изрядно сомневался в подлинности статуэтки, едва увидев ее, уж не мог противиться соблазну получить такого духа-покровителя – равно и лютого, и ласкового.
Темой студенческих научных изысканий Вязилова были жабы. Жабы в преданиях и космогониях народов мира. Все – от китайской денежной трехлапой жабы, поглощающей Луну в затмение, до Красной Жабы нивхов, уносящей в дольний мир умерших. Народы-племена земного шара, большею частью, к жабам были бессердечны, считая их вместилищем злых чар и темной силы. Ожесточенней всех к жабам была, конечно же, средневековая Европа. Известные как ведьмины приспешники, сопровождавшие на шабаш, домашние демоны, способные по ведьминому слову отравить христианина, навести на человека порчу или покалечить, жабы ценились ведьмами и в качестве сырья для колдовского зелья – их обезглавливали, с них сдирали шкурку и варили, а из слюны жаб изготавливали мазь, дающую невидимость. Некроманты, нарекая жабу именем врага, замучивали ее до смерти. Простой народ не отставал: жаб жгли, пепел мешали с бренди, пили как лекарство от запоя. Многие верили: у жабы в голове есть драгоценный камень, что становится горячим вблизи ядов.
Куда как благосклонней относились к жабам у славян, где земноводные считались бывшими людьми, их убивать было грешно: придет, мол, судный день, и люди с жабами будут поменяны местами, а тот, кому не хватит лягушачьей шкурки, пропадет. В народе говорили: кто убьет лягушку, у того рука отсохнет, заболят глаза, а выпитое молоко исторгнется, не выпечется хлеб, и мертвая лягушка станет ночью приходить – задушит молодца, у девицы отнимет красоту. Не то появится в виде огромной жабы водяной иль банник.
Вот и Маниту, по преданьям племени Навахо, был одним из тех божков, кто воплощался в жабе.
Сам Вязилов был родом с Псковщины, вырос в глухом селе, которое по чьей-то странной прихоти звалось Москвой, хотя стояло на краю земли, да и от времени отстало так, что не догонишь и на сером волке. Здесь еще содили по огородам бульбу и варили типяток, ходили в лес «к грибам и к ягодам». Вязилов рос на сказочных дрожжах, на закваске народных преданий, среди лесов, хоть и не муромских, но оттого не менее дремучих. Его односельчане верили: если убить лягушку, дождь пойдет, но и родная мать умрет; боялись: жаба может впрыгнуть спящему в открытый рот и станет там расти и пухнуть, иссушая человека. Божились, будто бы настой из сушеных лягушек помогает от бесплодия и женских хворей, но могут оттого в утробе зародиться лягушата. Что влажная кожа лягушек-жаб есть символ воскресения и жизни в пику смертной сухости, что жаба может запереть источники и вызвать засуху, а может одарить счастливчика особою водой – средством неиссякаемой телесной силы. Считали, будто Василиса, скинув лягушачью шкурку, прибывает к царскому двору на пир в сопровождении грозы и грома потому, что, проклятая колдуном Кощеем, вынуждена править водами – небесными, подземными и первородной грязью, плодородным илом, из которых мир возник. Личину лягушачью принимали ведьмы, выходившие ночами из воды доить чужих коров, и некрещеные младенцы, и девы, проклятые матерьми. И в каждой малой квакше виделась Володе та хтоническая жаба, всплывшая из мирового океана брюхом кверху, на которой укрепилась твердь земли, к которой в пасть ходили перволюди, чтобы обрести ведьмаческие знания и возвратиться колдунами или навсегда уйти в потусторонний мир. Но, более того, лягушки были средоточием всех женских свойств и ликов – девственницы, роженицы и старухи – символом эроса и плодородия. Тягаться с притяжением их женского эгрегора с амбивалентностью возвышенного и греховного, росы и тины, было не под силу образам мужским – ни волку-самоглоту, ни языческому змею Волосу, ни богатырским молодцам былин.
Возможно, Вязилов самой судьбой, самой своей наружностью был обречен дышать неровно к земноводным. Был он и сам нескладен, неказист и долговяз, что лягва. Высокий и субтильный, с острыми лопатками-коленями и длинными суставчатыми пальцами. Под выцветшими вьющимися волосами и высоким лбом глаза имел большие и белесые, слегка навыкате, глядящие рассеянно из-под полуопущенных полупрозрачных век. Чаще помалкивал, когда же обращались к нему прямо, отвечал с задержкой, словно требовалось ему время, чтобы всплыть к поверхности из омута своих соображений. Но мало этого – Володя Вязилов картавил, а со временем и заикаться стал на буквосочетании «кв», как если б перенял манеру у своих зеленых фавориток. Даже в тягучем имени его «Во-оло-одя» слышалось похлюпывание болотных вод и вопли выпи.
Чем движим был, взявшись на зыби детских впечатлений строить институтскую карьеру, Вязилов и сам едва ли мог сказать. Думал ли обрести под лягушачьей шкуркой Василису, повстречать в лесу лягушку с женской грудью или драгоценный камень в голове у жабы отыскать, бог весть. Только со временем его болиголовная влюбленность в земноводных женщин сделалась столь всеобъемлющей, что жаба им была возведена в тотем, и даже над кроватью, где б ни жил Володя, он вывешивал портрет русского дипломата и востоковеда Августа Дементьевича Жабы и гербовый знак белорусской дворянской фамилии Жаба, восходящей к смоленскому боярину XV века Константину Жабе.
Когда впервые Вязилов прибыл в Москву-Первопрестольную, только сойдя с подножки поезда, он был пленен столицей. Едва шагнул на золоченый от подошв лоб нулевого километра – и словно прикоснулся к полюсу гигантской батарейки: Москва ударила разрядом в сердце, током потекла в крови. Давно Вова боготворил Москву, хотя и понаслышке – ту из личин ее (личин, что как матрешки прятались одна в другой), которая хранила память о боярском и купеческом, о деревянном зодчестве, старомосковской хлебосольности и домовитости, былинной старине. Сюда, в Москву, сходились волны от пяти морей, и каждый из семи холмов ее, что над Москвой-рекой, был Чудо-юдо рыба-кит – всяк со своими теремами и садами, выросшими на хребте.
Как описать дыхание Москвы, в каком – одном – и сказка, и предание, и миф? И дистопия, и утопия. В каком свиваются дымы Морозовских мануфактур и смрад факторий братьев Рябушинских. И самоварный пар, и копоть первых паровозов.
Володю как языкознатца покоряла топонимика Москвы: пусть каменная, златоглавая была как лес – Майский просек, Олений вал, Охотничья, Дубравная и Ельнинская, Ивовая и Кленовый… А то бывало, что пройдешься по столице, и как на пирушке побывал: в Калашном слышится доныне запах калачей, в Кисловских – аромат солений. А мог Володя Вязилов бродить по улицам Москвы, как по музею этнографии, где улицы являли свод ремесел-промыслов в названиях слобод: Котельная, Иконная, Кузнецкая, Печатная и Плотничья, Садовничья и Огородная, Суконная и Сыромятная.
Недаром у столицы даже имя квакало: пусть жабы из Москвы давно перебрались в столичную Красную книгу, Москва по-прежнему была болотом, хоть и тридевять раз крытая асфальтом. Ее топонимы доныне прославляли грязь, трясину, топь, нечистую: улица Заболотье и Черное Озеро, Глинистый и Глинищевский, Колодезный и Выползов, и вовсе – Лихов, Зельев переулки. Даже московские церквушки, чудилось, стоят и по сей день нетвердо, по колено в иле, по соседству с чертом: Благовещения на Болоте, Вознесения в Кадашах (бывшая «на Грязи»), церкви Николы на Песках и Николы на Ямах, Ильи Обыденного близ Чертолья и Николы Мокрого.
Лягушки то и дело окаменевали на Москве скульптурой – путешественница в Домодедово, царевна на Манежной, безымянные жабы-фонтаны, жабы каменные, жабы кованные. И речка Жабенка (чью заболоченную пойму ныне занимала Тимирязевская академия) хоть и заключена была в острог подземного коллектора, все еще протекала под Москвой, пересекая Малое железнодорожное кольцо, чтобы затем, как встарь, впасть в реку Лихоборку.
Даже теперь Москва, уже зеркальная, стальная, осталась в то же время и лубочно-деревянной, будто вчера только отнесена была в Заяузье во избежание пожаров от печей горшечников Гончарная слобода, будто по сей день здесь служил митрополитом Симон Чиж и подвизался преподобный Карп Московский. В Кремле стояли сказочные пушки «Василиск» и «Гамаюн», и «Аспид». И оживали перед взором Вязилова древнерусские витые звери-барельефы на фасаде бывшего доходного дома церкви Троицы на Грязех, что на Чистопрудном, – поднимаясь на задние лапы, хвостами сплетались. А под балконом дома-терема Перцовой пробуждались каменные чудо-змеи, распускались на стенах синие, изумрудные цветы и пели на решетках кованые птицы.
Взирая на столицу из-под приопущенных по-лягушачьи век своих, Вязилов мысленно снимал с Москвы асфальтовую шкурку, обнажая грязи и болотища времен князей, междоусобиц и нечистой силы. Выращивал по новой те дремучие леса, что полегли на брусья изб и теремов, прежде чем те окаменели и срослись многоквартирными домами. Чащами зарастали спальные районы, болота и овражины ложились вновь поверх широких улиц, взамен проспектов-площадей опять стелились луговины. И дичь глубокая была на месте белокаменной, и долгие тянулись присказки о топях и лугах, и о нетронутых лесах ее, раздолье было птице тут небесной, не стерегся зверь стрелка» и не бежал в Сибирь далекую. Но все исчезло, когда показались на Москве рога кремлевские, и двинулись князья Московские на поезды удалые.
Вязилов чувствовал себя по-деревенскому покойно в бурной мегаполисной стихии. Он рассуждал, примериваясь к златоглавой: каждый кулик на своей кочке велик, но и столичные холмы – что есть, если не кочки? Выбирай, какая по душе, повыше, а уж затем – знай только, умей отталкиваться, чтоб одним махом да из грязи в князи, из лягушек в принцы.
Скоро отыскалась в белокаменной и кочка для Володи Вязилова, но, по прихоти судьбы, из всех домов Москвы (краснокирпичных в псевдорусском стиле, теремковых и узорочных, барочно-невесомых и моде’рново-холодных) он обосновался в самом немосковском – в Чайном доме Перлова, что на Мясницкой.
Построенный вблизи Китай-города, Чайный дом Перлова и сам был средь других доходных зданий, точно богдыхан китайский меж купцов. Володя угодил сюда еще студентом да так и осел – единственным мужчиной среди продавщиц-девиц, сплошь калиброванных красавиц. И хотя иному гостю, увидавшему Володю за прилавком магазина, могло казаться, будто малый носом ловит окуней, службу свою Вова нес исправно и клиента ждал, как жаба, притворяясь камнем, поджидает муху. Он никогда не суетился, двигался лениво, плавно, говорил с оттяжкой и не лез с услугами. Но вместе с тем, верный своей фамилии, как только покупатель подходил довольно близко, чтобы угодить к нему, как муха – к жабе, на язык, Вязилов оплетал его эпитетами, вязкими опутывал речами, и уж гость не умел уйти без покупки.
Начальство в пареньке души не чаяло. Как сыплется песок со стариков, так с Вязилова сыпался крученый чайный лист и зерна кофе. Володя знал о чае все. Полки с коробками и банками над ним вздымались Джомолунгмой, уходя под самый потолок, но Вязилов мог отыскать вслепую каждый чай из сотен, выставленных на продажу – с розовыми ли бутонам, с древесной ли корой, с плодами-фруктами или же ягодами можжевельника, а то – вовсе из экзотических: с запахом железнодорожных шпал или копченой рыбы. Мир для него окрашивался в чайные цвета: от черного и красного до желтого и белого. Володя мог часами наблюдать через стекло пузатых банок чайную труху сортов цветочных и фруктовых, сыпучий трут зеленого мате, жгуты и катышки крученого листа, потягивая носом одуряющий дух кофе из соседнего отдела – с примесями шоколада, марципана и корицы, запах, что иных гуляк заманивал под сень Чайного дома даже с противоположной стороны Мясницкой.
В Чайном доме правили три коалиции – кофейного, кондитерского и чайного отделов. В последнем Вязилов долгое время властвовал один, своих товарок из соседних залов – градуированных по метрической системе подиума девушек, которые без макияжа из дому не выйдут даже в булочную, – мало замечал. В его глазах они были из тех пустышек, кто и макияж с костюмом подбирает под цвет утреннего кофе: бежевый – к латте, под моккачино – шоколадный, черный – для эспрессо; а ввечеру переменяют гардероб, чтоб подходил к безалкогольному коктейлю. У них и пачка тонких сигарет, которую из сумочки достанут, будет в тон, и крышечка флакончика духов, и упаковка жвачки. Девушки-продавщицы Вову тоже почитали за пустое место, за существо бесполое – не выбирали слов, когда в часы затишья без гостей судили и рядили о мужчинах.
Впрочем, что Вязилову в них, когда у Вовы был роман с такой особой, что ни в сказке, ни пером… Нет, не роман даже, а так – этюд на два абзаца про неразделенную любовь. Давно выслеживал ее – с тех пор, когда однажды увидал и потерял покой. Ходил в кафе на Ленинградский, где та бывала часто, издали смотрел, ловил – взгляды и жесты, долетавшие слова ее. И даже подошел однажды к ней, бог знает, через что переступив, через какие пропасти и бездны. Отважился представиться и предлагал себя в холопы ей: ужом готов, мол, виться и ежом кататься, только бы у ног ее. Смерила взглядом снизу вверх, и Вова ощутил себя ничтожным, как под дулом перевернутого телескопа. Сказала: молодо, мол, зелено. Сказала: лягушонок, знай свое болото. С тех пор все так же часто приходил в кафе на Ленинградский, чтоб ловить ее – на опрометчивом словце или неосторожном взгляде, а то, глядишь, и с неудобным собеседником застать, поймать, как за руку карманника, и компромат добыть. Украсть у сказочной девицы платье, как пойдет купаться на Москву-реку, и выкуп требовать. Так безобидный уж забыл свой желтый венчик, стал гадюкой. Еж ощетинился ехидной.
Но вот на днях, в один из четвергов, что был ни чист, ни грязен и ни после дождичка, устроилась к ним новая сотрудница. Девушка с редким русским именем, которое и привлекло к ней прихотливое внимание филолога Володи. А там и Жбанов, управляющий их, известил, что поступает новенькая в чайный, к Вязилову, поручил ввести напарницу в курс дела, в круг обязанностей.
Звали ее Матреной, и воображение являло, торопясь, кустодиевский образ: пышнотелая, розовощекая, кровь с молоко. Но обладательница имени во всем противоречила художнику. Субтильная и медно-рыжая, изящная, красивая, но – будто бы надломленной какой-то красотой, она была под стать другим девицам в Чайном доме. Слишком эталонная, чтоб оставаться в памяти надолго, как тонкой выделки коллекционная модель – парусника, самолета ли – прекрасная, а все-таки серийная, каких так много на Москве. Казалось: будь она простушкой меж красавиц, помнилась бы дольше. В другой раз Вязилов и не заметил бы ее, но, привлеченный самобытным имени, он, как любой, кто сам обманываться рад, решил найти в Матрене собеседницу. И та пошла ему навстречу.
Пока Володя новенькой рассказывал о разнице между чаями катуабо и лапачо и о том, чем ценен желтый чай египетский в отличие от желтого китайского, она внимательно смотрела – больше на него, чем на коробки, и казалось Вове, будто дегустирует его глазами. Хотя обыкновенно Вязилов умел жонглировать словами, избегая злополучной буквы «р», имя напарницы не оставляло ему выбора. Заметив, что он всякий раз краснеет, обращаясь к ней, и запинается, Матрена поманила молодого человека пальцем наклониться ближе и шепнула заговорщицки: «Ты можешь звать меня Мате, как чай, но – тссс…» И Вязилов вновь покраснел, но уже более из благодарности. С того дня между ними утвердилось нечто вроде тайной дружбы, спаянной общим секретом.
Кофейные девицы невзлюбили новенькую, за глаза звали Матроной или Трешкой. Мате сама держалась с ними пришлой и не стремилась заводить подруг, как если б знала некий срок, который ей положено отбыть здесь, и тот срок был короток. Следя за девушкой исподтишка из своего угла, Володя размышлял, какой сюрприз преподнесет, если раскроется, как деревянная игрушка-тезка? Явит ли ту же многоликость?
В тот день, когда после рабочей смены, уходя последним, Вязилов украл Маниту, все было, как всегда. В кофейном в перерывах между покупателями обсуждали новость, будто на путях Казанского завелся «поездной» из безбилетных пассажиров, сложивших головы на рельсах Плешки. Он-де перещелкивает стрелки, путает диспетчеров, морочит машинистов и, якобы, один из скорых «Москва – Кишинев» уже отправил под откос. Мате, облокотясь на стойку, стучала авторучкой по зубам, кроссворд разгадывала, то и дело обращалась к Вязилову за подсказкой:
– Вова, как будет – «диалектное название болота», пять букв?
И Вязилов закатывал глаза, припоминая все известные ему диалектизмы:
– Зыбун, ходун, мшара, согр-ра, ур-рема, блато, вор-рга, мшина, всача…
Но тут она спохватывалась:
– Ой, я обсчиталась – шесть букв, шесть!
И Вязилов, вздыхая, начинал по новой:
– Плавни, мочага, вязило, чаруса…
Мате перебивала снова:
– Так у тебя фамилия болотная? – счастливая своей догадке, восклицала. И Вязилов смущался:
– Да, я ж с Псковщины…
А девушку уже влекли новые клетки по горизонтали, и Мате надолго замолкала, погружаясь в буквенные перекрестки, хмуря брови и покусывая ручку.
После полудня прибыл Жбанов, со служебного выгрузил партию бомбилий, калабасов, ножичков для колки монолитного пуэра, десяток вызывающих дождь деревянных жаб, коробки с чаем. А среди прочего – и статуэтку Темного Маниту. Жбанов и сам не знал, зачем она, сказал: «Пусть будет для экзотики». И Вязилов, который сразу положил на статуэтку глаз, решил: директор тотчас и забудет о божке, утраты не заметит.
После работы Вязилов с Мате взялись раскладывать товар. И даже эта монотонная обязанность стала отрадна Вове: напарница могла и скучное сделать игрой – как составители кроссворда обращают заурядное в загадку. Пока Володя распаковывал коробки с чаем, Мате смеялась, разбирая с этикеток новые слова: «Те Гуанинь», «Лун Дзин», «Дянь Хун», «Най Сян Сюань». Легко, с акробатическим изяществом взбиралась по стремянке, как под купол цирка, под рельефный золоченый потолок с гонтскими крышами, нависшими над полками, с фигурками драконов, рыб и птиц. Рассовывала разноцветные пакеты по свободным сотам на витринах, пересыпала под стекло пузатых банок драгоценные сорта, что отпускаются на вес с аптечной аккуратностью. Покончив с чайными коробками, устроила концерт на вызывающих дождь жабах, палочками поводя по их зазубренным хребтам, и долго Чайный дом был полон деревянным кваканьем и смехом. Володя любовался живостью Мате, хотя и видел в ней по-прежнему что-то необъяснимо и неодолимо пришлое, как если бы нелегкая забросила ее сюда на день-другой, как на экскурсию, не более. Кофейные девицы, давеча он слышал, шептались, что Мате живет со Жбановым и тот устроил ее в Чайный дом, чтоб не сидела без занятия: мол, папики-банкиры покупают содержанкам бутики, а Жбанов подарил любовнице чайный отдел. Но Вязилов давно привык, что сослуживицы его, как люваки: питаются кофейными плодами да кофейными же зернами и испражняются. Иначе говоря, слухами полнятся, сплетни плодят и кривотолки множат.
Когда поднялся ввечеру к себе в мансарду, Вязилов с трудом перетащил Маниту из прихожей в кухню и утвердил на подоконнике между цветочными горшками. Решил, пусть постоит, покуда не отыщется места по-авантажнее. Чуть погодя хотел было устроить статуэтку в комнате, но не сумел даже чуть приподнять божка над подоконником. Подумал: видно, за день совершенно выбился из сил.
А ночью хлынул дождь. Сущий потоп. Первый весенний ливень, посмывавший с крыш не стаявший дотоле снег. И Вязилов слышал сквозь сон, как пульсом бьют по кровле капли, водостоки венами шумят, как дом скрипит своими межпанельными свищами, эоловой арфой труб подвывает. Дом аварийный был, поеденный грибком, с подвалами, полными проржавевших докрасна коммуникаций.
Поутру Вязилов нашел, что потолок на кухне в нескольких местах дал течь, пол залило, а дождь все не переставал, капель не унималась. И Вова (благо в Чайном у него был выходной) весь день таскал, переставлял тазы-кастрюли, елозил тряпкой по полу и проклинал давешних деревянных жаб, вызвавших дождь, зарекся их касаться впредь. Только под вечер дождь сперва утих, затем иссяк, и Вязилов взялся за реставрацию своего антикварного жилища. Вытер столешницу, шкафы и подоконник, смахнул скатавшуюся в капли влагу с темечка Маниту, который скрылся в листьях декабриста и герани, и отодвинул от божка цветочные горшки. Намаявшись, ночью спал муторно: все чудились ему какие-то шлепки, как если бы вновь покрывала пол вода, и кто-то шлепал в ней по щиколотку – но не человеческими парными шагами, а черт знает как.
На следующий день и в Чайном доме дело не заладилось: в банке с элитным купажом нашли жуков, и Вязилову предстояло до конца дня вынимать, как плевела из зерен, проворных насекомых из сушеных зарослей заварки. А стоило бы окрестить жуков живой биодобавкой, думал Вязилов, и продавать чай втридорога, вышло бы очень в духе купцов Перловых. Но Жбанов инициативы не оценит. Мате в минуты без клиентов развлекалась: отделяя двух жуков, устраивала жесткокрылые бега по стойке. Потом взялась помочь ему, тогда, низко склоняясь головами к дебрям чайного листа, они обменивались шепотом, стараясь не дышать, не сдуть, и Вязилов вдыхал запах волос Мате, порою доносившийся к нему поверх дурманящего аромата чая.
Ночью Володе не спалось, луна желтела в форточке, как сыр на дне колодца. Как ни ворочался, не мог укрыться от ее недреманного ока. Поднялся и побрел на кухню, не включая свет, глотнул воды из чайника. Шагнул назад к двери да там и замер. Он мог поклясться, что в тот миг, когда он обернулся, лунную полоску на пороге кухни перепрыгнула, скакнув в тень, жаба. Не смея шелохнуться, Вязилов стоял, не зная, как теперь ступить в тень коридора самому, чуял, как встретит под босой ступней осклизло-бородавчатое тулово. Вызлился на себя: ребячество, чего ни примерещится со сна! Однако тотчас же раздался в коридорной тьме шлепок влажного тельца о линолеум. Тут нервы сдали. В три прыжка достигнув спальни, Вязилов захлопнул дверь, запрыгнул на кровать с ногами, неприятно ледяными, замотался в одеяло по глаза, лежал, прислушиваясь к тишине. Только к рассвету погрузился в рваный сон, но и во сне лежал все так же, напрягая слух, а тишина за дверью оживала то совиным уханьем, то волчьим воем, то ни человечьим, ни звериным – неземным каким-то бормотанием.
Проснулся, как не спал – смурной, помятый. За целый день так и не смог прийти в себя, даже откушавши три чашки кормового кофе, отводимого на персонал. Отвесил покупателю «Молочного улуна» вместо «Сенчи» и разбил стеклянный чайник. Жбанов ярился: «Вязилов, что ходишь, будто пальцы растерял?!» Даже когда Мате спросила: «Вова, „земноводное семейства жаб“ – три буквы?», он только невпопад откликнулся: «Ага…» – что, впрочем, совершенно удовлетворило составителей кроссворда.
А следующей ночью чертовщина заявила о себе вовсю. На сей раз Вязилов явственно слышал в коридоре многие шлепки живых прыгучих бурдючков. Набравшись смелости, дверь распахнул и свет зажег: ждал – в рассыпную ринутся, как тараканы. Но коридор был пуст. Лежа под отсыревшим одеялом, Вова уговаривал себя, что это капает вода с карниза, или дом, пронизанный весенней влажностью, разжился новыми свищами. Но нет, слишком уж прихотливы, слишком неслучайны были звуки: не бездушная акустика – живая воля.
Утром, сказавшись нездоровым, взял отгул. Перевернул весь дом, но не нашел следов незваных тварей. Вместо того с вящей досадой выявил, что статуэтка Темного Маниту от царившей в доме сырости покрылась чем-то вроде тины или мха. Сперва поскреб божка войлочной губкой, но налет не поддавался. Взял металлическую щетку, тер безжалостно, однако и тогда не удалось отчистить плесень. Былое благородство камня не вернулось: злой дух стал пористым и рыхлым, хотя был по-прежнему тяжел не по размеру.
Едва стало темнеть, Володя перебрался в спальню, заперся на ключ. Хотел уснуть, покуда не раздастся первый гаденький шлепок – не тут-то было. Чем дольше за дверьми стояла тишина, тем дальше сон бежал. И скоро Вязилов, измучившись, стал призывать знакомые шумы, как то, что лучше неизвестности. Мечтал: хоть бы соседи вздумали кутить или кто, припозднившись, загремел на лестнице створками лифта, зазвенел ключами. Однако дом стоял беззвучен, мертв, как залитый водой по крышу. Володя пробовал ворочаться, но вата одеяла поглощала шорохи, и больше не скрипели старые матрасные пружины. Даже его дыхание казалось лишь воспоминанием о звуке. И вот, когда Володя уже думал выйти и зажечь повсюду свет, устроить самому полночный кавардак, лишь бы не вслушиваться дольше в мертвечину тишины, на кухне что-то с грохотом свалилось на пол, долго дребезжа. Так кот роняет крышку со сковороды, вспрыгнувши на плиту и посягая на котлету. Но не было кота. И никакая жаба, хоть бы трижды исполинская, такого шума не наделала бы. Цепенея, Вова встал, приотворил дверь, глянул в лунный сумрак. И снова явственно услышал: кто-то беспардонно шурудит на кухне. Воры? О, Вязилову было бы теперь даже отрадно встретить вора! Кажется, сам бы отдал, что имеет, лишь бы обнаружить человека.
На подломившихся ногах он двинулся на шум. Долго стоял у косяка, не смея заглянуть в дверной проем, чуя, как пот стекает по лицу. Когда же заглянул, весь прежний страх стал для него лишь дальним эхом подлинного страха.
В молочном свете посреди неосвещенной кухни высился толстым коротконогим силуэтом Темный Маниту и беззастенчиво копался в кухонных шкафах. Сыпались с полок прошлогодние газеты, спичечные коробки, ножи и вилки, чашки падали и бились. Бог был теперь только немногим ниже человеческого роста и на удивление проворен. Вязилов хотел бежать, но двинуться не мог, хотел кричать, но горло ссохлось. Он отступил на шаг вглубь коридора, но неосторожно шаркнул, и Маниту резко обернулся. Сверкнули маленькие жабьи глазки в темноте, клацнула пасть, полная каменных зубов, алчные развороченные ноздри потянули воздух. Маниту двинулся к нему, царапая когтями по линолеуму. Вязилов простился с жизнью, но злой дух, обнюхав его с ног до головы сплюснутым зрящим носом, потерял к Володе интерес и возвратился к недрам шкафа. Принюхался еще и, кажется, нашел искомое: могутными своими лапами сграбастал с верхней полки жестяную банку чая – еще советских пор, индийского, что со слоном. Стал с жадностью вертеть, давить, царапать и, не разумея крышки, ковырять когтем.
– В-вы хотите ч-чая? – услышал Вова незнакомый голос и не сразу понял, что сам выпалил вопрос, ибо в его душе страх вытеснило изумление. Маниту рыкнул, крепче стиснул чай, оскалился, но глянул с интересом и, помедлив, неохотно протянул Володе банку. В последний раз лязгнув в когтистой лапе, жестянка опустилась в мокрую ладонь Володи.
«Короткая жизнь,
но гораздо быстрее
остывает чай», – гласило хокку Фу Цзециня, украшавшее декоративный свиток на стене Чайного дома Перлова. Другое, вышедшее из-под кисти мудреца Ли Шао Вэя, вторило:
«Дно чашки пустой —
нет печальней картины
на белом свете».
Володя Вязилов давно работал в доме Перлова, но лишь теперь открылась ему правота мыслителей Китая.
Едва пустела чашка – и Маниту свирепел. Остывшего же чая вовсе не переносил. Хуже того – дождевой бог был не дурак отведать элитарной дармовщинки, и от чаев дешевых (что уж говорить о пакетированных) воротил свой нос, вплюснутый навыворот ноздрями в каменно-квадратную физиономию. Впрочем, Володя уже не уверен был, что тулово его жильца из камня – божок на вид сделался рыхл, мясист и мягок, как стебель кувшинки на изломе.
Шкафы у Вязилова стали наполнятся чаем. Неясно было, где злой дух так пристрастился к этому напитку, завезенному в американские пенаты блудными сынами старого света, но без чая дождевой бог принимался раскурочивать и сокрушать все, до чего дотягивались его когтепалые кургузые конечности. Стеклянные и жестяные банки, пластиковые контейнеры, пустые спичечные коробки, заварочные чайники и сахарница, рюмки и стаканы – все теперь у Вязилова полнилось заваркой: мелко – и крупно-листовой, скатанной в гранулы, прессованной. Как покупают для возлюбленных цветы, так Вязилов скупал для ненасытного Маниту чайные шарики, цветами распускавшиеся в кипятке. Казалось, Чайный дом снялся с насиженного места и переезжал в Володину мансарду. Но сколь бы ни были обильны, запасы таяли стремительно, ибо Маниту пил чай беспрерывно и тогда лишь становился благодушен, когда лапа его стискивала чашку. Больше всего он жаловал черный пуэр – элитный, не один год ферментировавшийся в земле, как вина в погребах, с душком компостной ямы.
Скоро все скопленные средства вышли, и Володя начал на работе подворовывать. Чтоб не попасться и восполнить недостачу, взял на вооружение проверенные временем методики подделки чая, что процветали на Москве, когда чай только вышел из-под ярлыка «пользительной травы», переместился из аптек в трактиры, где даже «хлебному вину» составил конкуренцию, сделавшись москвичам необходим, как воздух. Однако Вязилов был ограничен в способах подделки – далеко до приказчиков питейных и едальных заведений прежних лет. Во времена купчины Перлова самым невинным делом было примешать к заварке металлических опилок или мелкой дроби. Предприимчивые москвичи чайные спивки подметали с пола по трактирам или выбирали из помойных ям, подкрашивали жженым сахаром и продавали заново. Это бы ладно. Хуже, если в дело фальсификации чая шли дубильные вещества и ядовитые красители. Вязилову, не желавшему брать на душу помимо воровства грех душегубства, оставалось лишь примешивать к спитой заварке импортных сортов сермяжный русский иван-чай или фасованный дешевый и заполнять своими смесями полки Чайного дома.
Если бы кто-то попросил Володю описать Маниту, Вязилов не смог бы выдумать ничего лучше, как цитировать того же Говарда Лавкрафта: «…велик как туча, без формы, но с лицом, из которого вырастают змеи». С той только разницей, что вместо змей из тела Темного Маниту исходили жабы – так среди лета настает исход вчерашних головастиков на сушу. Жабы выпотевали каплями из губчатой широкопористой кожи божка, шмякались влажными сгустками на пол, расползались всюду, и уже скоро ими стали полниться все закоулки и углы Володиной мансарды. Жабы кишели в простынях, запрыгивали на столы и стулья. Нельзя было пройти, чтобы не раздавить пару-другую скользких земноводных. Жабы и лягушки были самых разных видов: и привычные русскому глазу, и такие, что Володя отроду не видывал – от необычных до немыслимых. Черные жабы-землеройки, сами будто ком сырой земли. Жаба рогатая чесночница, неотличимая от палого листа, и жаба веслоног лишаистый – точно клочок лесного мха. Дальневосточная жерлянка и лягушка-бык, охотно поедавшая сородичей, что уступали ей размером. Были здесь жабы мексиканские носатые, наружностью как плоский тупорылый камень, и шлемоголовые свистуны редкой пупырчатости. И стеклянные лягушки, в прозрачном брюхе у которых видимы были все органы. Жабы пустынницы, на спинах у каких будто бы человеческой рукой были нанесены ажурные кресты. И квакши Имбабура, чьи гигантские глаза не помещались в черепе, торчали по бокам. Лягушки-черепахи – розоватые, жироподобные комки. Жабы ага и жабы пипа. Были и те, для описания которых Вязилову вовсе не хватало слов, глядевшие совсем уже инопланетными. Стояло оглушительное кваканье, сливавшееся в монотонный фон. Жабы без устали сношались, не заботясь о видовом сходстве, извергали прорвами икру, и скоро не осталось в доме Вязилова емкости, от ванны до стакана, где бы не плавали в стоячей воде головастики. Воды испить – и то сделалось не из чего.
Володя взялся было воскурять против нечистой силы ладан и кадить по комнатам, но жабы только мутно прыгали в чаду, истаивать не думали. Маниту же чихал самозабвенно, широко разевая саженую пасть свою, пестрящую зубами, как небо индейцев – звездами, лишь здоровее делался день ото дня, и выходило, что хозяин фимиам кадит ему. Меж тем аутентичных мексиканских способов изгнания нечистой силы Вязилов не знал. А стоило лишь молодому человеку заикнуться о родных пенатах Темного Маниту в Северной Америке, глазки божка полнились яшмовым багрянцем, зубы кровожадно щелкали. И Вязилову оставалось только проклинать захватнических янки, полагая, что злой дух стал, не иначе, выселенцем из индейской резервации.
Когда Володя перестал кадить, Маниту вытребовал трубку, начал сам покуривать табак напополам с чайным листом. Вязилов на дух не переносил курильщиков. В табачной сизости вставал перед глазами у него фантом нетрезвого отца, чья глотка изрыгала перегар и матерщину. Отец пошатывался, силясь замахнуться на Володю-дошколенка, и вот уже на пацана сыпался град затрещин, а в ушах звенело, хлюпала в носу жидким железом кровь, текла на ворот клетчатой фланельки, на пол капала… Только видения из детства больше не могли тягаться жутью с настоящим Вовы Вязилова.
Впрочем, покуда не заканчивался чай, Маниту был миролюбив, говаривал о громовержцах мирового пантеона запросто, без пиетета, себя же величал перуновым кузеном и скрипел зубами, помня о расправе, учиненной на Руси над истуканами старшого брата. Рассказывал, как досаждали ему, дождевому богу, мелкие духи-здухачи, когда нелегкая забросила его в Белград в составе частного собрания музейных ценностей. Рассказывал и о своем рождении – как был сперва безликим гладким валуном, далеким потомком камня, прозванного «холм свидетельства», подле которого Иаков и Лаван договорились о ненападении. Камни-свидетели были в почете на заре Земли, их собирали вместе ради клятв, и клятвы, приносимые в присутствии камней, делались столь же нерушимы, так же тяжелы, крепки, что камни. Люди в те времена, говаривал Маниту, всегда носили при себе немного жира или масла, чтобы, встретив подходящий камень, умастить его и обещать: если исполнит камень просьбу, то придут опять, еще жирнее смажут. Так скоро и его, Маниту, камень стали призывать в свидетели обетов, видеть в нем способность исполнять желания и драгоценными маслами поливать и скотьей кровью, осыпать колдовской травой и мелкой монетой. В нем пробудился дух и стал внимать мольбам, ниспосылать просимое: побед бессильным, денег бедным и детей бесплодным. Но, видно, слишком часто окропляли его кровью – стал ржаветь душой. Дарованные его волей дети, вырастая, становились бессердечны, богачи – безумны, силачи – безжалостны. Затем, века спустя, явился скульптор и увидел в нем черты навахского божка, так он обрел лицо и имя. Прокочевав еще тысячу лет с рук на руки, из алтаря в алтарь, нашел пристанище в квартирке Вязилова на Мясницкой. К тому моменту благовонные масла давно сидели у него в печенках, от крови делалось кишечное расстройство, а на пыльцу случалась аллергия. И Вязилову оставалось радоваться, что заезжий родственник славянского бога-громовника не требует кровавых жертв, довольствуясь багряным каркадэ.
Вскорости Вова начал даже понемногу привыкать к своему постояльцу, хотя, встречая Темного Маниту ночью в коридоре, он всякий раз по-прежнему мертвел. Божок освоил пользование удобствами, ночами стал захаживать в уборную, где заседал подолгу, не включая света. И хотя с виду был неповоротлив и коротконог, ходил бесшумно, так что Вязилов врезался в него в темноте – всякий раз неожиданно, сколько б не светил себе фонариком. Маниту никогда не спал, и хуже всего молодому человеку приходилось, когда дождевой бог решал ночь напролет торчать у него в спальне, заводя своим скрежещущим, как скрип петель, нечеловечьим голосом долгие разговоры. Вначале Вязилов пытался запираться от Маниту на ночь, однако же злой дух легко одолевал преграду, истинно просачивался в щели: стоило молодому человеку задремать, как уж его скребла сырая лапа, оставляя синие кровоподтеки, проступавшие к утру.
Стали названивать жильцы нижних квартир: выпот Маниту сыростью просачивался к ним сквозь переборки, расцветая ржавыми потеками на потолках. И возвращаясь ввечеру домой, Вязилов поднимался к себе партизаном. Спешно юркнув внутрь, тотчас передергивал затвор дверной щеколды и уж более не выходил, баррикадируясь в квартире наглухо. Когда звонили в дверь, он, крадучись, едва-едва заглядывал в прицел глазка и возвращался в спальню. Рваные пятна туч красили мартовское небо в серый камуфляж – точь-в-точь рисунок лягушачьей шкурки, ее болотно-бородавчатая маскировка. Соседи вызывали участкового, грозили выбить дверь, и Вязилов стал на ночь задвигать ее комодом.
Работал он теперь на полусогнутых, вслепую, спал на ходу, почти не ел, всюду мерещился ему тинистый жабий запах, богатые отдушки магазинного ассортимента отдавали плесенью, крученый лист сыпался в кипяток лягушачьей икрой. Володя поминутно головою встряхивал, гоня гудевшие в ушах квакушечьи рулады. Скоро и вся Мясницкая приобрела для Вязилова омерзительное свойство: он шел по тающему снегу, а казалось, что все давит, давит лягушачье мясо. Мате поглядывала на товарища недоуменно. Другие девушки покручивали пальцем у виска. Право, и сам Володя уже согласился бы на место в сумасшедшем доме: спустя неделю, проведенную бок о бок с жабьим демоном, он, истощенный и ополоумевший, начал задумывать побег: в тот подмосковный и почти бермудский треугольник, что с севера граничит с Третьим транспортным, а с юго-запада – с Малым кольцом московской железной дороги и Черемушками, нося имя Канатчиковой дачи. Однако не успел еще толком оформиться план бегства, а уж Володю, собиравшегося на работу поутру, Маниту подцепил в прихожей острым коготком за ворот и дал понять, что с рук ему затея не сойдет.
Меж тем в Москве все более теплело, и с жабьим богом начали происходить чудны’е превращения. Более тот не заводил бесед с хозяином, пасть его открывалась чаще, но уже не для того, чтобы хлебнуть чайку. Теперь, куда как более зубастая, чем прежде, та изрыгала звуки, всякий раз одни и те же, от свистящей и скрежещущей какофоничности которых у Володи выступал холодный пот:
– Ах-хс-соннут-тли… – то и дело повторял Маниту. – Эст-санат-тлеи…
Дальше – больше. Вязилов даже не сразу понял: жабий бог процвел. Сперва Маниту стал отчаянно чесаться, беспокойно шлепая из угла в угол, оставляя за собой на дыбившемся от воды паркете кожные клочки. Затем пророс, покрывшись с головы до ног зловонными болотными цветами с капиллярной сеткой красных жил – из тех, что пахнут кровью, ловят на медвяный сок и переваривают заживо не только насекомых, но и маленьких животных.
Не сразу догадался Вязилов, что звуковые диссонансы, столь настойчиво произносимые Маниту, не бессмыслица. «Ахсоннутли, – прочитал, когда решил ткнуть пальцем в небо и курсором в строчку поисковика, Володя, – или Эстсанатлеи: в мифологии индейцев племени Навахо – красивая и молодая, пышущая жизнью „бирюзовая женщина“ или „женщина перемен“. Слыла верховным божеством больших и малых изменений, сотворившим, по преданию, небесный свод. Особенно была в чести за то, что даровала людям дневной свет». «Так что ж это выходит? Ему надо женщину?» – сообразил Володя. Но сразу же и сник: где было взять ему в Москве верховную богиню пантеона племени Навахо?
Однажды ночью чуткий боязливый сон Вовы прервали вовсе душераздирающие звуки, рядом с какими бормотание Маниту было благовестом. Володя вздрогнул и насторожился. Вначале слышался лишь треск и шорох, но вот заиграли струнные, однако заиграли противоестественно, вопреки всем законам не одной только гармонии, но даже против геометрии нотного стана. Затем раздался голос – старческий, визжащий, выговаривавший звукосочетания немыслимые, не сродни ни одному людскому языку, как если б всем словам переломали кости и срастили наново не тем порядком. Голос шел, то понижаясь, то усиливаясь, то с угрозой, то с отчаяньем, то с ненавистью ко всему живому, с затаенной в шепоте и ждущей часа мести.
Не в силах вынести его звучания, Володя вышел в коридор, где даже кваканье утихло, подчиняясь преисподневым речам, и в свете фонаря увидел, как стоит Маниту возле старого проигрывателя, где крутится пластинка, но взамен тонарма со звукоснимателем над ней зависла кряжистая лапа дождевого бога, и звук на полной громкости рождается под крючковатым пальцем, что острым кончиком когтя воспроизводит его в реверсе, снимая черную виниловую стружку. Вязилов подскочил и щелкнул тумблером, прервав осатаневший голос, взмывавший то и дело в надпороговый диапазон. Маниту клацнул пастью, глазки в темноте зажглись, а из покрытого растительностью тела вылупились и скакнули на пол две ядовитые жабы ага, каждая с Володину ладонь.
– Ну, ладно, ладно… – сдался Вязилов, завел проигрыватель, опустил иглу на уцелевшую дорожку.
На сей раз звук возник неискаженным, оказавшись всего-навсего голосом бабки-сказочницы: «…А у младшего сына, Ивана-царевича, стрела поднялась и улетела, сам не знает куда. Вот он шел, шел, дошел до болота, видит – сидит лягушка, подхватила его стрелу…»
– Ц-царевна-лягушка? – выдавил Володя, начиная вдруг догадываться и перепугавшись оттого сильнее прежнего. Маниту растянул в подобии улыбки челюсти и убежденно закивал. – Царевну-лягушку ты хочешь в невесты?! Где же я тебе ее достану?! – В пылу отчаяния Вязилов сдавил виски.
Однако же, по прихоти судьбы, решение явилось к нему в тот же день – под вечер пятницы тринадцатого.
С тех пор, когда купец Василий Перлов велел приказчикам отвешивать чаи в любых количествах, чтоб на любой карман, и тем добился небывалого наплыва покупателей, московский люд, пестрый и разношерстный, проторил широкую тропу к его торговой лавке. С тех пор среди гостей Чайного дома на Мясницкой попадались типажи самые разные, и много Вязилов перевидал гостей престранных – богатых баснословно, бедных по-богемному, экзальтированных, а то и вовсе полоумных.
Но гостья, появившаяся в пятницу под вечер, одна стоила многих. Вова заметил ее сразу, чуть она возникла в отворившихся дверях, и сердце екнуло. Так долго он ходил ловить ее на Ленинградский, и вот она сама пришла к нему. Тесна, тесна была Москва, и с каждым годом делалась теснее. Гостья скользнула по его лицу глазами, но, конечно, не узнала, а, быть может, даже не заметила его на фоне пестрых полок. А Вязилов и сам хотел в них раствориться, хотел сквозь землю кануть и даже присел было на корточки за стойкой, сделал вид, что ищет фильтры для кофемашины. Хотя наружность гостьи вовсе не была отталкивающей, напротив (русоволосая, в просторном то ли поло, то ли дафлкоте, она смахнула мокрый снег с волос, откинула назад льняную их копну, открыв прекрасное лицо свое), она внушала суеверный страх, как тот, кто не от мира сего, а быть может, с самого что ни на есть того света. Слишком уж длинны были ее распущенные волосы, не по-московски, дико. Слишком уж ярко-зелены глаза.
Впрочем, куда как больше удивился Вязилов, как поднял взгляд, лицу Мате, которая при виде гостьи побледнела мертвенно, мгновенно. Произнесла чуть слышно: «Подмени», – и вышла к посетительнице в зал. Как две подруги, встретившиеся, чтоб обсудить дела сердечные, они присели за кофейный столик и минуты две вполголоса переговаривались. Но, видно, слишком плохи были те дела и те сердца. И скоро гостья протянула через стол Мате обернутый фольгою сверток. Вязилов слышал, как добавила: «Отдайте вашему Андрею – полегчает», а после встала и ушла.
– Твоя знакомая? – спросил Володя, как умел небрежнее, когда Мате вернулась за прилавок – уже не бледная, но почерневшая лицом. Она проговорила нечто неразборчиво, и Вязилов расслышал или, может быть, додумал: «Ведьма». Что там за сверток и какой такой Андрей – тоже вопросы были интересные, но Вязилов не знал, как их задать, и те повисли в воздухе кофейным паром, шоколадным духом.
Больше он не добился от Мате ни слова. Она тотчас же позвонила Жбанову, чтоб отпроситься и уйти пораньше. Из разговора их Володя понял, что Мате потребовалось непременно быть к семи на Трубной. План у него, впрочем, и без того уже созрел. Царевна, ведьма – все одно, решил Володя Вязилов. Стало быть, надо только выследить Мате и – уговорами, угрозами ли, как угодно – заставить ее выманить свою знакомую, сегодняшнюю колдовскую гостью, назначить встречу той в укромном месте, в поздний и безлюдный час, а Вязилов уж будет там во всеоружии.
Едва Мате ушла, он кинулся в подсобку, сдернул куртку с вешалки. Сминая задники, сунул ноги в ботинки. Выскочил расхристанным на улицу, даже не вспомнив об оставленном чайном отделе.
Мокрый снег слепил глаза, горстями сыпал и лепил его лицо по-новому, хотел, быть может, маску снять с него, как слепок гипса, снежный оттиск. Даже не снег то был, но жмых Москвы, ее суспензия, осадок и экстракт. В каждой снежинке видел Вязилов Москву (все та же радиальная фрактальная структура), пока не стаивала на ладони, каплей не стекала, устремляясь вспять к Москве-реке.
Споро шагая по Мясницкой за фигуркой удалявшейся Мате, Володя Вязилов поднял глаза к окнам своей мансарды.
– Вот ужо вам! – погрозил он жабам и ускорил шаг, чтоб остудить лицо и голову, горевшую в бреду. – Есть у вас царь-чурбан, будет вам и царь-журавль!