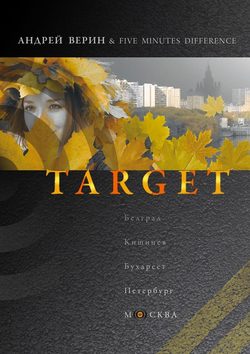Читать книгу Target - Андрей Верин - Страница 7
КОЛЬЦО ВТОРОЕ – КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ МЕТРО
3. РУСАЛИЙ ДЕНЬ
Оглавление…допустим, вам с товарищем лет десять, и погожим днем июня в тополиной опуши по щиколотку вы с ним – не разлей вода друзья – сбегаете из интерната под шумок, чтобы исследовать мистический дом Шарля де ла Риц-Аппорта, известный сведущим в архитектурной мистике наравне с птеродактелевой башней в глубине колодезных дворов аптеки Пеля, домом-утюгом с Садовой, падающим зданием на Конной и другими сокровенными диковинками Петербурга.
Вы пробираетесь в час-пик сквозь центр на перекладных искрами сыплющих трамваев и троллейбусов, шипящих пневмоприводом дверей, и вот он, дом. На двери кодовый замок – из тех, чью тайну выдают отполированные кнопки. За дверью – сумраком и сыростью встречающий подъезд, не знавший с монархических времен ремонта. После полуденной жары внутри кожу покалывает холодком, глаза не сразу привыкают видеть вновь, но вот из темноты взгляду является предлинный коридор: уличный свет не достает конца его (разве бывают до того глубокие дома?), и тополиный пух не долетает с выдохом входной двери, в вихри сбивается в предбаннике – хоть валенки валяй. А в глубине – три лестницы вздымаются бок о бок, разделенные витражными перегородками. Три лестницы – не слишком ли для одного подъезда и не означает ли, что обитают в этом доме не одни только жильцы квартир, но и другие, небывалые засельцы? Но поздно поворачивать назад, и вы, стараясь поддразнить один другого, чтоб только самому труса не праздновать, шагаете на первую ступень центральной, слабо освещенной лестницы. Чем выше поднимаетесь в торжественности тишины, овеянные холодком и эхом, тем больше хочется понизить голос, и вы скоро переходите на шепот.
Витражные перегородки между лестницами будто шерстью поросли от пыли, стекла местами выбиты, сквозь выбоины можно видеть смежные пролеты и площадки. И чудится, что поднимаетесь в зеркальном коридоре. Не сразу замечаете, в чем странность отражений (поди найди десять отличий), но – если на площадки главной лестницы, с лощеным деревом перил, кованым чугуном решеток выходят двери, как положено, то на площадки боковых двух лестниц – окна. Словно дом Шарля де ла Риц-Аппорта наизнанку вывернут и смотрит сам в себя. На правой лестнице те окна самые обыкновенные, с фрамугами и форточками, и за стеклами виднеются чужие кухни, комнаты, шкафы с кастрюлями и одиноким медным чайником. Лампы без абажуров мухами засижены до сорока ватт вместо прежних ста, и синим пламенем взрываются колонки, а ватерлиния на стенах между типовой зеленой краской и побелкой отмечает высоту чьих-то амбиций, низость бытовых страстей, и если понизу – тоска зеленая, то поверху – та «белая вода», в которой разбиваются о быт любовные лодчонки, угодившие в водоворот бульонной пены, пенок с молока, споткнувшиеся в беге о пороги коммуналок. Вы с другом долго поднимаетесь, и каждый новый поворот пролетов открывает новые обрывки чьих-то жизней, взятых под стекло прихотью архитектора-вуайериста, порою даже долетают звуки, голоса, и кажется: вот-вот из них соткется внятный диалог, кадром проявится под красным абажуром сцена быта обитателей зловещего, мистического дома. А третья лестница еще страшней: она темна, черна, за ней – пустая шахта, лифта нет, на стенах те же окна, только заколоченные изнутри (откуда – изнутри? разве нутро бывает нутренней?). Чем выше поднимаетесь, тем жарче воздух – уже близка раскачегаренная солнцем кровельная жесть, и в памяти всплывает что-то дантовское о чистилище. И чем не адовы круги – пролеты этих лестниц?
Вам жутко, вы уж не глазеете по сторонам, но чудится – сам дом исподтишка разглядывает вас, и проникать в тайны жильцов, а то и нежити этого здания вам с каждым шагом хочется все меньше. И поднимаетесь-то вверх, а кажется – вглубь лабиринта забираетесь, в клубок ходов, где нитей много, но не путеводна ни одна. Как вдруг – чу! – сверху щелк замка, скрип отворенной двери, и вы как угорелые, кидаетесь вниз кубарем, не чуя ног, без памяти и без оглядки. Перила больше не дубовые – железные, и лестничная клетка все тесней, ступени осыпаются, недолго и споткнуться, хрустит зубовным скрежетом сколотая побелка под ногами, духота сменяется на сырость, пахнет тленом, плесенью. Один пролет, другой, четвертый, пятый, и с каждым все темней, а цоколя все нет, и вот уж трудно различать ступени, разве ощупью, перила влажные и ржавые, отдергиваешь руку, и что-то каплет с потолка за ворот. И, замерев, так что одно лишь собственное заполошное дыхание шумит в ушах, вдруг различаешь за спиной негромкий шорох, треск, и обернувшись, слышишь: из-за заколоченного черного окна сквозь доски и стекло доносятся сперва помехи радио, а после пробивается мелодия, и, незатейливая, музыка звучит, как голос заживо схороненного из-под досок гроба. Ты понимаешь: лестница уже не та, другая – третья! Ком застревает в горле, когда силишься позвать приятеля, сбежавшего вперед. Тот окликает первым: «Здесь нет вы…» – кричит он снизу, как вдруг голос обрывается с утробно-чавкающим звуком. «Ч-чего?!» – кричишь и ты. Но тихо. И, одолевая холодок под ложечкой и отвратительную ватность тела, пробуешь спускаться, эхо по пятам шагает, будто сзади кто-то шлепает и приволакивает ноги, и ног этих отнюдь не две…
Кажется, лестница вовек не кончится, но вот подошва обнаруживает ровный пол, ладони слепо шарят в темноте: ты в тупиковой комнатушке – тесной, как приямок лифта, голые стены, жижа на полу. Спрятаться негде – даже в темноте яснее ясного, что ни души. Вдруг спотыкаешься и, наклонясь, нашариваешь в луже на полу кроссовок – стоптанный кроссовок твоего товарища. Некогда будничная, вещь эта теперь, лишившись и хозяина, и пары, выглядит до того уродливо и дико, что волосы дыбом встают, пока пытаешься понять, медленно каменея, что же произошло, куда запропастился друг. Но тут помимо собственного сбитого дыхания вдруг слышишь, что кто-то и вправду медленно спускается следом по лестнице, нечеловечески подтаскивая ноги, и ног этих отнюдь не две…
– Далеко нынче забр-рались, скв… квалыги. – Буквосочетание «кв» бедняге отчего-то не давалось. Да и картавил он ужасно. – Шалят, шалят. Это бомжи тут подвизаются. Пользуются, пар-разиты, что в Москв… кве пр-ривидений как гр-рязи. Ну и тур-ристов обир-рают впечатлительных.
Едва схлынул мясницкий обморок, увидел над собой его лицо. Клешастый, долговязый парень. Глаза навыкате с набрякшими мешками век изрядно придавали ему сходства с жабой. И заикался парень через слово – как приквакивал. На вид – ровесник мне, только худой болезненно и измочаленный. Слишком развязно, слишком лихорадочно смеялся он, без повода. И слишком много говорил, как если б до сегодняшнего дня был нем. Помог мне встать из снежной грязи и вел теперь, поддерживая, точно собутыльника, не разумевшего краев стакана. Я же, пока валялся без сознания, промок, замерз, охрип и брел за ним с покорностью, как вправду пьяный. Кашлял и схаркивал что-то соленое (подтаявший под солью снег?) Чертов бомжара лихо смял мне горло, голос треснул. Я объяснялся с провожатым больше пантомимой. Впрочем, жабоподобный парень и без слов все понял про меня: приезжий, без копейки, угодил в самые жернова столичной мельницы – старо предание.
– Так тебе денег, что ли, на билет? – с места в карьер скакнула жаба. – Я дам, ты только подсоби мне в одном деле. Недалеко, тут, р-рядом. Знаешь Чайный дом?
Не знал, но это не смутило жабу. Назвавшись Вовой Вязиловым, спутник продолжал частить: столичные бичи, мол, поделили рынок привидений. Престижные потусторонние места, конечно, близ Кремля, но, скажем, роль призрака Ленина заметно уступала хлебностью духу Ивана Калиты, так как последний, по легенде, наделен сумой, а значит, и оправданы его поборы припозднившихся гуляк, меж тем как Ильичу, известно дело, рай и в шалаше. Вот и бомжи с Мясницкой, продолжал мой спутник, эксплуатируют легенду о неупокоенной семейной паре скупердяев-купчиков, живших неподалеку, что и по сей день ищут свои денежки в карманах припозднившихся гостей столицы.
– Ты виделся со старичком, это Ион Молдавский, бомж с Казанского. А есть еще бабуля – краше в гр-роб кладут, встр-ретишься ночью, и мор-роз по коже. Они с Ионом здесь обычно в пар-ре пр-ромышляют, чтобы достовер-рнее.
Даже не запыхался говорливый доброхот, а я, напротив, все еще не мог восстановить дыхание.
Чайный дом Перлова» куда он влек меня с усердием лабазника, почуявшего во мне прибыль, предстал оплотом тех времен, когда чай еще расходился по столице из аптек рука об руку с морфием и кокаином. Меж ординарными мясницкими домами Чайный дом стоял – весь в золоте, цветной лепнине, львах, драконах, крыши из гонта вместо козырьков, – казалось, угодил в первопрестольную из Поднебесной и в паузе меж фонарей светился тускло, как китайская шкатулка, извлеченная из недр тайника под свет настольной лампы.
– Я думал, Китай-город дальше, – усмехнулся я, по-прежнему хрипатый, что пропойца.
– Как говор-рил Остр-ровский, будет и Китай на нашей стор-роне. – Мой спутник, отключив сигнализацию на входе, пояснил: – Р-работаю тут. Дом, кстати, постр-роен р-ровно на том месте, где стар-рички-скв… квалыги жили. Тесна Моск… ква, и с каждым годом все тесней. Если попал на ее чер-ртовы кр-руги, так пр-росто не сойдешь, пока не остановится пластинка, век вер-ртеться. А Питер-р ваш? Тоже, небось: в болоте не без чер-рта, в мир-ру не без злодея? В Москв… кве хоть семь холмов тор-рчат из омута, и то, гляди, что делается…
«Разве успел сказать ему про Петербург?» – подумал я. Спросил:
– Чем подсоблять-то нужно?
– А, там пустяки, – кряхтел он, силясь в темноте попасть ключом в игольное ушко замочной скважины. – Сейчас, все по пор-рядку. Чай будешь?
Я пожал плечами. Впору пришлось бы мне теперь средство от кашля – кокаин, к примеру. Спросил:
– Пожрать найдется что-нибудь?
– Пир-рожные, конфеты, мар-рципан.
Слепя, вспыхнули лампы в полуночном магазине, и голова от золота, зеркал и света запрокинулась. На миг мне показалось, что сбылась мечта моего детства, и вслед за девочкой Мари, по лесенке поднявшейся в рукав отцовской лисьей шубы, я угодил в Конфетенхаузен. Здесь в воздухе витал дурман: дух кофе и кондитерской, запах цукатов и цветов, еще чего-то многосложного и непереводимо благовонного. По стенам – полки, а на них – цветной мозаикой – не счесть коробочек и баночек, пестрящих этикетками. «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном…» – пел Лемешев в «Садко», но не об Индии вел речь – о Чайном доме Перлова. Пузатились с витрин заварочные чайники – чугунно-черные и глиняные, цвета шоколада. Зевали во все зубы вьющиеся, пенящиеся драконы. Умолкнувшими гейзерами высились кальяны. Пирожные, больше похожие на яйца Фаберже, вращались за стеклом витрины-холодильника. Лежали россыпи конфет – что горы самоцветов. Глядели отовсюду статуэтки: слоны, жирафы, обезьяны, богини плодородия с грудями до пупа, широкощекие божки и жабы, жабы. Как есть Конфетенхаузен. Да только, помнил я, сказки у Гофмана страшны, коварны: того и гляди крысы хлынут из щелей под хрип часов: «Трик-и-трак, бум-бум!», или появится из-за прилавка, ковыляя, отвратительнейший крошка Цахес.
Пока я, запрокинув голову, рассматривал конфетный город, помещенный в интерьер китайского дворца, Вязилов промышлял за стойкой. Я пристальней в него всмотрелся: если очертания лица изрядно переняли от лягушки, то в телосложении сквозило что-то богомолье: казалось, долгие конечности его имели сочленения в местах, несвойственных для человека – того и гляди, достающий чайные коробки с верхних полок, он втрое сложится, как раздвижная лестница. Нелепый, суетный, но вместе с тем проворный, парень этот словно сочинен был для того, чтобы прислуживать. Он в прошлой жизни, не иначе, был московским ярославцем – кровь-с-молоком молодцем, кудрерусым да белотельным. Поди, кафтан носил он синего сукна, и кушак алый, и красную александрийскую рубашку, шелковый платок, шляпу поярковую набекрень и сапоги козловые со скрипом. И подвизался на Москве, небось, трактирным половым, затем буфетчиком, а на закате дней повышен был в приказчики.
По-прежнему не умолкая, Вязилов рассказывал, что давняя мечта его – с годами сделаться титестером – чайным экспертом, чайным сомелье, только и делать, что пить чай с утра до вечера да выдавать суждения и приговоры выносить.
– Для москвичей чай – пятая стихия, – говорил он. – А самовар-р – солнце московской жизни, вокр-руг котор-рого вр-ращаются судьбы столичных обитателей.
Рассказывал: недолго довелось негоциантам насаждать чай, разливая его в кабаках бесплатно. Скоро москвичи распробовали, пристрастились. И это несмотря на водочных лоббистов и церковников, стращавших присказками, вроде: «Кто пьет чай, тот спасенья не чай, а кто кофе пьет, того Бог убьет».
– Что будешь, кстати? Чай? Или чего покрепче? – спросил он наконец.
– Угу, покрепче бы – чего-нибудь поесть, – напомнил я.
И Вязилов всплеснул руками:
– Ах да-да-да, сейчас…
Принес пирожных. В подсобке чайник вскипятил. Прилавок застелил газетным разворотом, где клетками пестрел недоразгаданный кроссворд. Достал обыкновенную коробку чая, расчехлил пакетик. Поймав мой удивленный взгляд, кивнул на полки за спиной:
– От дорогих изжога. Ценники бьют по карману, а настои – по желудку.
Вертя меж пальцев чайный ярлычок с тропической лягушкой общества «Rainforest Alliance», я вспомнил о подарке с Трубной. Вынул сверток.
– А завари-ка этого.
Вязилов странно, долго посмотрел на сверток, взяли его из моих рук и сказал:
– А ты, значит, Андр-рей.
И я оторопел:
– Откуда знаешь?!
Он не ответил, развернул фольгу и, пробежав глазами этикетку, сунул нос в пакет, поморщился, но возражать не стал, засыпал в чайник травяного сбора и, дав настояться, констатировал брезгливо:
– Жидкий, аж Москву чер-рез него видать.
Я отхлебнул: вкус в самом деле был отвратный. Но кто сказал, что чай от нечисти окажется амброзией?
Потом распитие напитков чайных перешло в употребление спиртных: сперва были конфеты с коньяком, потом приятель мой пошел метать на стойку разноцветные ликеры – никак, задумал разорить сокровища Чайного дома. Черт разберет этого чудака, подумал я. Спросил, не пустит ли к себе заночевать, но Вязилов нахмурился:
– Нельзя, бр-рат, у меня уже… один жилец южноамер-риканский поселился. – Он отчего-то взялся братом звать меня, хотя крестами не менялись и на брудершафт не пили. – Вот ты скажи, что может быть у Мексики с Р-россией общего? Да р-ровным счетом ничего. Р-разве что ур-равнять ежей и кактусы. А этот мексиканский чер-рт пр-рижился здесь, как дома. Жениться захотел. Но мне его невесту еще выкр-расть надо.
– Она с Кавказа, что ли?
– Нет… Она, бр-рат, не поверишь – вила, – шепотом открыл мой собеседник.
– Кто?
– Вилы, это как у нас р-русалки. Купалки, водяницы, лоскотухи. Одеваются в волшебные платья, и кто отнимет у них платье, тому они подчинятся. И будут твор-рить чудеса по его слову. Пр-равда, под юбкой у них могут обнаружиться, как говор-рят, козлиные копыта, но это мелочи. Я пр-риглядел одну – по всем пр-риметам вила.
Чифиризировался чай, а вместе с ним и бред крепчал. Вязилов дальше плел свое:
– Вчер-ра ведь был четвер-рг, русалочий великий день, когда они выходят из пр-рудов – р-расхаживать по суше, бегать по полям, качаться по дер-ревьям, защекотывать до смерти встр-речных или увлекачь под воду. Но я ношу с собой полынь, они ее боятся. – Он оттянул карман, и сквозь сладчайшие дурманы Дома Перлова пахнуло горькой ноткою абсента.
Сказал, что вилы к людям, и особенно к мужчинам, чаще дружелюбны. Обиженным или сиротам даже помогают. Но ежели прогневать вилу, может взглядом погубить.
– Так что, на всякий случай, не смотр-ри в глаза ей – вдр-руг убьет, – предостерег.
– Постой, что значит: не смотри в глаза? Кому? – не понял я.
Он даже ухом не повел, будто не слышал вовсе.
Я захмелел. Обветрившееся лицо пылало, как приспевший самовар. Отчаянно клонило в дрему, голова потяжелела, падала на грудь. Чайных дел подмастерье оседлал тем временем любимого конька и пел акафисты московской старине. В его переслащенных панегириках то тут, то там чаинками всплывали архаизмы: «вприкуску или рассиропливать», «вечор неспешно растабарывать за туляком», «с усердием откушать чашечку-другую». И оттого в китайских императорских хоромах, прихотью магната Перлова перенесенных в русскую столицу, перед глазами у меня вставали времена первопрестольной старины, где вдовы с ворохом детей ходили с самоваром на гулянье, торговали кипятком; вольноотпущенные мастерили домики для чижиков; где целый пласт народонаселения питался от щедрот московской фауны и флоры: безместные, безденежные и лишенные надежд, все лето напролет они ходили по грибы, по ягоды и собирали травы и коренья для аптек, рвали дубовую листву для огуречного засола и цветы для Троицына дня, удили рыбу и ловили птиц, а к осени – вязали венички из трав для чищения платья. Ныне те птицы-рыбы перешли на поселение в Красную книгу города Москвы и на ее страницах проросли те травы. Людей же, в Лету канувших, в Красную книгу не вносил никто: сотни сословий и ремесел златоглавой вымерли, как виды, заодно с ужами и ежами, жабами, шмелями и сороками. Вязилов говорил: слыло поверье, что в Москве сорок нет потому, что Алексей, митрополит Московский, однажды заприметил ведьму в образе сороки и птиц заклял, чтобы в Москву не смели залетать. С тех пор разве что иногда охотники, медведицу свежуя, под шкурой находили деву в сарафане – ведьму. С тех пор в народе говорили: нет больше в Москве ни ведьм, ни ведьминых приспешников. Но я-то знал, что ошибаются: плохо глядите, думал, господа воцерковленные – сквозь пальцы смотрите, что сложены в щепоть для крестного знамения. Ко мне ведьма сама пришла, без шкуры, не таясь. И если верить Вязилову, было это аккурат в четверг, велик русалий день. Гадать осталось: приголубит ли меня, судьбой обиженного сироту, или, взъярившись, под» воду утянет?
Я разлеплял глаза, а Вязилов уже вел речь о войнах чаелюбов. Под стать партиям лилипутов Свифта, споривших об остром и тупом концах яйца, любители китайского напитка не могли определиться, «штырит» чай или «бодрит». Раздор их, по словам моего собеседника, длился второй десяток лет, неся в чайные церемонии вульгаризацию и смуту: тюремные замашки повсплывали с маргинального дна города в верхи, и вот уж золотая молодежь шла к Вязилову в Чайный дом купить элитного пуэра, у которого чифирь – тот еще психоделик, говорят.
Я закрывал глаза, клал на прилавок голову, как на продажу выставлял ее, и мне опять являлся Лемешев, верхом на пачке легендарного советского «индийского», пел: «Есть на теплом море чудный камень яхонт; на том камне Феникс, птица с ликом девы, райские веселые песни сладко распевает, перья распускает, море закрывает. Кто ту птицу слышит, все позабывает…»
Но Вязилов, уже и сам порядком пьяный, тормошил меня, я открывал глаза и слышал его неумолчное:
– Да ты хоть знаешь, сколько на Р-руси Москвы?! Вот говор-рят о белокаменной – «дер-ревня», почему? А дер-ревень с названием «Москва» без счета по стр-ране р-рассыпано. Я сам, бр-рат, р-родом из такой Москвы – только на Псковщине, под Пор-рховом. А главное, всех тезок белокаменной р-роднит убогость, малолюдность и забр-рошенность – в пр-ротивовес Москве столичной, как нар-рочно будто бы…
А то рассказывал, что где-то глубоко за Тулой, южнее поселка Челюскинцев (и как занесло тех людей-ледоходов в Сибирь?), в тясячеозерном нехоженом краю близ озера Большой Глядень лежит болото имени Москвы. Оттуда, говорил он, вся та нечисть, что стекается в столицу: ошиблись адресом и прописались в белокаменной взамен одноименного болота. Ибо, как сверзил Михаил Архангел воинство сатанино с небес, оно попадало на землю в разные места – кто в лес, кто в воду, кто в жилища человеческие, отчего и вышли водяные, лешие и домовые. Московская нечистая – та, не иначе как, болотного происхождения, ведь и Москва-топоним по происхождению есть топь и грязь, и жижа, вязкость, слякоть, мокрота».
Веки мои свинцовели и опускались, как под тяжестью посмертных медяков. Все чаще я ронял голову на прилавок, точно ухом припадал к земле – проверить, слышен ли топот погони. Я так давно не спал по-человечески. Казалось, как подушка складками, у меня отпечатается на щеке свинцовая чересполосица газетного кроссворда. Я уповал: вот-вот ночь кончится, и я, открыв глаза, увижу утро. Но, видимо, в Конфетенхаузене на Мясницкой не было иной поры, чем ночь: когда опять будил меня бубнеж приятеля, я просыпался только в новую историю – так, выходя на разных станциях подземки, видишь всякий раз иной фрагмент столицы, новую Москву, «младую, незнакомую».
– …ты думаешь, с чего, – Вязилов аффектировал, расплескивая из стакана, – человеческая жизнь так дор-рога? Да потому еще, что каждый носит в теле др-рагоценные металлы – золото, сер-ребро и платину. Пускай в свер-рхмалых дозах, но они содер-ржатся в кр-рови. Было, я помню, дело как-то во Владикавказе: пар-рнишка-ювелир-р задался целью выковать невесте обр-ручальное кольцо, выпар-ривая золото из собственной кр-рови. Только пока осуществлял, конечно, помер-р. Др-ругой р-решил добыть алмаз из углер-родов собственного тела – сгор-рел еще быстр-рей.
– Да ну, – не верил я. – Вранье.
– Вот олухи, – не слушал Вязилов, – еще бы пр-редлагали женщинам свой скальп или отр-резанное ухо – вместо пр-ресловутых р-рук-сердец…
Но вот я снова открывал глаза и видел уже самого себя, разгоряченно вопрошавшего в сердцах:
– Что я ей, жаба – целовать меня? Да еще как! Иудин поцелуй, ей-богу – разве что женскими губами, но пытки те же! Распяла меня на скрещении метро-путей! Бошка болит – точно булыжник вбила мне: знаешь, такой прямоугольный, с Красной площади – острым ребром под лоб.
Вязилов рассмеялся пузырящимся спиртным смешком:
– Так это у тебя, бр-рат, жабий камень в голове. Котор-рый р-раскаляется вблизи отр-равы. Очень ценный.
– Как мило.
– Вообще-то жабы, бр-рат, они… Знаешь истор-рии Великого потопа? Ковчег и голуби – все ер-рунда. На деле, мне один индейский бог р-рассказывал, он лично видел – там была большая жаба, пр-роглотившая единственного спасшегося человека и отр-рыгнувшая его, когда потоп сошел.
– Кто-кто рассказывал? – не понял я.
Но Вязилов опять не слушал, говорил и говорил без умолку, с пространностью воистину ветхозаветной.
На улице шел снег с дождем – каждая капля с полстакана – шлеп, шлеп, точно и в самом деле жабы прыгали. Я напивался, и слова у Вязилова становились липки, вяжущи, сливались в монотонный гуд. Я засыпал, воспоминания, являвшиеся в полусне, были так же бредово-эклектичны, как убранство дома Перлова, и голова клонилась ниже, падала на грудь – а будто в лестничный пролет летела…
…помню, в тот дом трех лестниц, особняк барона Шарля де ла Риц-Аппорта, нас с товарищем привел азарт охотников на ведьм. Мало ли развлечений было у детдомовских мальчишек, что играют мусором, металлоломом? И что ни подберешь, все клад, сокровище, каким теперь богаты разве что дети трущоб и лагерей для беженцев из зон незатухающих конфликтов. Не счесть было забав у нас: плавить из отработанных аккумуляторов свинец за гаражами, отливать фальшивые рубли (монетки собственного государства-детства), пули к рогаткам и грузила к поплавкам; таскать мешки с песком на крышу недостроенной пятиэтажки, смотреть, как падают со взрывом; набрать полную банку полосатых «музыкантиков», чтоб с криком «Пчелы!» в классе выпустить, сорвав урок на визг. Да мало ли… Пусть я не выезжал с семьей на море, пусть не поднимался затемно, чтобы идти рыбачить с дедом и, едва забросив удочку, с натугой вытащить сома-левиафана; пусть не сидел затемно у костра, обугливая хлеб на ивняке, не строил замков из песка у плеса, не сочинял посланий молоком, не запускал воздушных змеев. Зато мы с пацанами объедались пыльной заячьей капустой и жвачкой яблочной смолы. Ходили, задирая буратиний нос с кленовым семечком-крылом, насвистывали на стручках акации; случись война – артподготовка шла репьями, застревавшими, точно осколочное, в голове (ежели только воспитатели не успевали прежде налысо обрить от вшей). Не счесть было кладов-секретиков, зарытых опрометчиво, так что не отыскать потом и с самодельной картой, пацаньих мифов, суеверий и легенд, а более всего – ночных страшилок, леденящих детские сердца в восьмидесятых. Как мальчик Миша в сказке Одоевского, всмотревшись пристально в узор на крышке табакерки, бежал к открывшейся в ней дверце и оказывался ростом с ноготок (чисто гашишевый приход, если подумать; что нюхал вместо табака Владимир Федорович из той табакерки?), так ночью с двухэтажных интернатских шконок взгляд летел туда, где в черном-черном городе на черной-черной улице живая мясорубка под диваном, летающий глаз, каменная рука, гроб на колесиках въезжает в дверь под звуки про’клятой пластинки (после у мертвой девочки найдут колесико во рту), красные шторы, задушившие родителей, можно разрезать только скальпелем, схороненном в звезде с кремлевской башни; пенсионеры в заводских подвалах собирают на конвейере кукол-убийц; бесшумно ездит по ночам черная волга с номерами «ССД» («Смерть Советским Детям») и трамвай, на лбу которого две даты – твоего рождения и смерти; и только доблестные милиционеры в силах оживлять задушенных-отравленных-утопленных и давать нечистой силе укорот.
Волнительней всего в те времена звучал гулявший между пацанов рассказ о ведьминых сокровищах: мол, ведьмы, из дремучих муромских лесов давно переселившиеся в каменные джунгли, все так же знают, где сокрыты клады, и если кто изловит ведьму, пусть и городскую, то в праве требовать с нее богатства. Рассказ этот был так же достоверен, как тот факт, что магазин «Диета» на Гороховой торгует пирожками с человечьим мясом (как правило, рассказчик лично знал несчастного, который вытащил однажды из начинки ноготок с остатками дамского маникюра). Теперь, пьянея и, как мальчик Миша, влетая с высоты своего роста в перспективу вязиловского кроссворда, я видел в клетках по горизонтали и по вертикали архитектурные ансамбли Петербурга и вспоминал, как в детстве лазали по крышам, по чужим подъездам шастали (не знаешь наперед, за какой дверью откроется вдруг сумеречный и сырой модерн, повеет Цветаевой-Ахматовой-Блоком и холодом чугунных решеток) и охотились на ведьм. Как ведьму распознать, известно: сложить в карманах фиги – ведьма обернется и, зачмокав, спросит: «Че те надо?» В то время Ленинград был только-только переименован в Петербург, и с детской суеверностью мы ждали перемен: явления на улицах носастой гоголевской нечисти и Родиного топора под каждым длиннополым запа’хом пальто.
Женщину эту показал мне Вадик, воровато выглянув из-за угла: она и в тополиной заверти ходила в длинном, наглухо застегнутом плаще. Худая, несгибаемая и высокая, что каланча, она тогда казалась нам старухой. «Руку даю на отсечение, что ведьма! – кипятился мой приятель в жа’ре инквизиционного запала, на ухо шипел: – Кореш рассказывал, у них старуха химию ведет – как пить дать ведьма». С неделю мы выслеживали ведьмовскую даму подле дома Риц-Аппорта. Но план не клеился: то виделось, как заведем знакомство с демонической особой, услужив, переведя через дорогу, то представлялись дерзкие облавы с кляпом и веревками: «Клад или жизнь!» Но, по большому счету, ни один из нас не знал, как быть, если и в самом деле доведется с дамой-дьяволицей встретиться лицом к лицу, и каждый в тайне уповал, что не дойдет до этого. Но труса праздновать было тем более зазорно. И как-то раз решились: выждали, когда она зайдет в подъезд и проскользнули следом – только бы набраться смелости вдавить кнопку звонка квартиры, дальше будь что будет. Не знали: дверь подъезда за спиной захлопнется, как скобка мышеловки, крышка табакерки с городком внутри, и двух охотников на ведьм поймает на приманку клада демонический дом Шарля де ла Риц-Аппорта – темень бесконечных лестничных пролетов населив ожившими мальчишескими страхами, до полусмерти застращает – еле ноги унесем. И мог ли я тогда предположить, что десять с лишним лет спустя буду все так же замирать на миг, не донеся руки к тревожной кнопке, долженствовавшей извещать хозяйку о незваном госте, стоя перед дверьми квартир столь многих женщин-ведьм, когда-то бывших близкими с моим неназванным отцом?
Одна беда – кроссвордом строится только прямолинейный Петербург, искусственный, что синтетический кристалл Сваровски. Москва растет сама, фрактально вторя центробежной гелиоцентрической системе. Витийствует и задает задачки много заковыристей «пяти букв по горизонтали». Сердце страны, а между тем она извилиста, как мозговое вещество – знай голову ломай над ее ребусом. Здесь мостовая вымощена перламутром, небо пестренькое, а по небу ходит золотое солнышко. Поманишь его, оно с неба скатится, вкруг руки обойдет и опять поднимается. Здесь домики стальные, полированные, в каждом сидит мальчик-колокольчик Вова Вязилов много их, много и все мал мала меньше. Над мальчиками-колокольчиками надзиратель, господин валик-Банник – лежит на диване в халате и с боку на бок переворачивается, а все лицом кверху: «Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры? кто прочь не идет? кто мне спать не дает? Шуры-муры! шуры-муры!» А подле золотой шатер с жемчужной бахромой, и в том шатре – царевна-ведьма. «Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. Смотришь на все и ничего не видишь. Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, он бы за молоточки не цеплялся, и молоточки не стучали бы; а кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели – музыки бы не было». Я протянул к ней руку, но, едва коснулся белой кожи, царевна изогнулась, валик завертелся, молоточки застучали, колокольчики забили дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Умолкло все, валик остановился, молоточки вразнобой попадали, а колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики поизломались. Тогда я испугался и… очнулся. Опять увидел под щекой кроссворд. В одном месте по-вертикали было вписано карандашом «царевна», и кто-то много раз обвел в том слове буквы «арев». Задумавшись, что в них особенного, я переставлял буквы и так, и эдак, покуда не прочел в них имя той, которая…
– Вон она! Пр-рячься!
Я вздрогнул от его взволнованного шепота, и сон слетел. Вязилов потянул меня пригнуться, скрыться за прилавком.
– Идет! Дер-ржи! – Он сунул в руку мне моток нейлоновой веревки, и я сперва не понял, для чего. Сам в три прыжка перебежал зал Чайного и встал у двери – с тем расчетом, чтобы любой вошедший в магазин оказывался бы к нему спиной. И только тут я начал понимать, что речь идет и в самом деле о поимке, о капкане. Но прежде, чем успел сказать что-либо, звякнул колокольчик, предваряя посетителя. Я осторожно выглянул над стойкой и едва не ахнул в голос. Кого угодно ждал увидеть (кажется, не удивился б и жилице дома Риц-Аппорта, канувшей давно в глубинах детства) – но только не ее, больше других бывшую ведьмой на Москве.
Вязилов подскочил к ней сзади, сгреб в охапку и, зажав одной рукой ей рот, крикнул с охотничьим запалом тех, кто свежевал медведиц, с заполошностью безумия:
– Давай вер-ревку!
Я на негнущихся ногах поднялся, вышел в центр зала. Поверх ладони Вязилова, из-под густотравья спутанных волос глядели на меня глаза цвета болотной ржавой зелени, блестели гневом.
«Вот сейчас взглядом и убьет…» – подумал я.
– Давай же, ну! – Вязилов высился над жертвой палачом. – Долго не удер-ржу ведь!
Он и не удержал, когда, так и не выпустив мотка веревки, я врезал ему по физиономии, и на ногах не устоял, на пол свалился вместе с пойманной. Вырвав из вязиловых рук, я потащил ее наружу, прочь из липкого Конфетенхаузена, из аптеки Пеля, полной ядов, прочь от колесующего на кругах трех лестниц дома Риц-Аппорта – ото всей архитектурной чертовщины и от бесов в человеческом обличье.
На улице мы с ней на миг сцепились взглядами:
– Беги, он сумасшедший! – крикнул я. Она же засмеялась, не спеша уйти:
– Сам убегай, воробушек: …уж фокусник рельсы тянет из пасти трамвая… …трамвай с разбега взметнул зрачки… …трамвай расплещет перекаты гроз…
Опять кликушествовала чем-то маяковским – обрывками и без того расхристанного ритма строф его. Юродивой мне рисовалась, но шутом был я. Прильнула на мгновение ко мне, к щеке прижалась ледяным своим лицом с горячими губами – то ли поцеловала, то ли прикоснулась праздно, вскользь – не понял. Сразу отпрянула, только ее и видели – прочь бросилась стремглав и сгинула в ночи.
И тут же за спиной, в светящемся проеме магазина, раздался рев и грохот, от которого по всей Мясницкой замигали и заквакали автомобили. Я было кинулся за ведьмой в гущу аварийных огоньков, но спохватился и попятился, бегом рванул к Тургеневской, к бульварам, слыша за собой все нараставший рокот, гул, бывший не звуками живого, но – чего-то оживавшего. Казалось, океанская волна тягучей пены, туча брызг идет между домов Москвы от сердца города к самому сердцу моему, уже сбоившему от бега. И когда гул достиг неслышных уху подпороговых частот, с неба посыпался горстями темный град. Я пробежал еще немного по инерции, как вдруг увидел в свете фонаря, что град тот, шлепавшийся оземь, прыгает и расползается. Крупная градина упала мне за шиворот и там зашевелилась, заелозила. Я вздрогнул, выпростал из-под ремня рубашку – вытряхнуть, и, холодея, понял: жабий дождь идет – черные головастики, взрослые особи с костистыми лопатками, пластавшиеся по асфальту жабы, жирные, живые, под ногами лопаются, как гнилые сливы. Меня скрутило, вывернуло наизнанку тошно-сладким. Чуть отдышавшись, прикрывая голову руками, я бросился, что было духу, вдоль по улице, давя, давя растущий слой живого месива.
Мясницкая иссякла, из последних сил рванул и вылетел на площадной простор, прянул из-под капота взвизгнувшего джипа, кинулся опрометью, погоняемый испуганным и злым гудком его, и Москва за спиной пошатнулась в затемненных стеклах здания ЛУКОЙЛа, будто пленкой нефтяной тонированных. Меня кинуло в сторону, на бульвар. Здесь только поредели дьявольские, подлинно мясницкие осадки, но я еще бежал и слышал позади шлепки скользких преследователей, оглядывался на бегу, но только фонари в глазах мотались.
Я сбавил ход, пошел, еще захлебываясь каждым вдохом, едва не рухнул на колени, но тут из-за спины раздался оглушительный трезвон. Рывком я обернулся, чтоб увидеть несшееся на меня в лучах прожектора лицо московской комсомолки в красном головном платке. «Нет, только не трамвай!» Но не страха возопил, что золотое, плотно пригнанное к рельсам колесо сейчас отрежет голову, а от досады, что не миновала и меня булгаковщина. Звон сменился визгом тормозов. Тот – кровяным шумом в ушах. Трамвай, обдав горячим воздухом от фар, уткнулся в меня тупорылой мордой. И я упал, уперся лбом, как в торцевой спил плахи, в каменные плиты промеж рельс, но те не вынесли тяжести бреда всех минувших дней, часов, разверзлись, и я ухнул в черноту, спасаясь обмороком от абсурда, рухнул в берлиозово небытие.