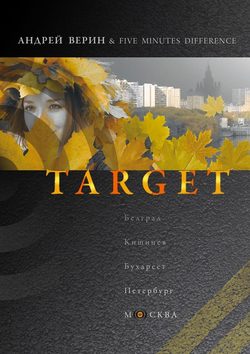Читать книгу Target - Андрей Верин - Страница 5
КОЛЬЦО ВТОРОЕ – КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ МЕТРО
1. СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
Оглавление…и вот наутро первобытно-мистический взгляд мой на мироздание сменяется естествоиспытательским. Так вычурный, витийствующий ар-нуво сменяется конструктивизмом. Я вижу своего отца – все так же снизу вверх, но я уже взрослей, и вечерами вместо сказок Пушкина читаю демонического Лермонтова. Отец мой улыбается, как Молотов в Берлине сорок третьего, о ком позднее Черчилль скажет – от улыбки на его губах веет сибирским холодом. Как и нарком, отец мой по-военному статен и строг. Его просторная, аэродромная квартира – в самом острие высотки, его служебную машину подает шофер, она сверкает у подъезда среди серого автомобильного прибоя – так черный кит, лоснясь, выбрасывается на сушу. Отец вернулся из командировки и везет меня обедать в Метрополь, затем – в музей, будет показывать мне пана со свирелью в Третьяковке. Там на меня со стен глядят глаза – Христос в пустыне, врубелевский демон, огненный Леонид Андреев Репина, его же кисти мечущийся взгляд актрисы Стрепетовой, сумеречный васнецовский Алконост – они тревожат и несут смущение детской душе, приоткрывая мир неведомый, невидимый, недостижимый…
Очнулся стиснутый с боков людьми в вагоне. Раскалывалась голова. Видение, на миг настигшее меня, развеялось, точно соцреалисты разогнали полумрак минувшего столетия, стерли его померкнувшие краски, чтобы воздвигнуть на холсте утопию, да там и оставаться жить в веках – в квадратике подрамника. Подземный поезд вынырнул на божий свет, и мне в глаза ударил солнечный диск, пущенный небесным дискоболом – загорелым физкультурником Дейнеки. Зажмурился, но, свыкнувшись, увидел, как состав, выпрастываясь из тоннеля, медленно плывет сквозь город, причаливает у платформы «Выхино». Какое, к черту, Выхино? Последнее, что помнил я – гостиницу «Белград», многоэтажку на Смоленской, осколок братской Сербии в сердце Москвы.
Ночь минула страшней, чем у Хомы-философа, летавшего верхом на ведьме.
После того, как побывал в «Белграде», одним конвертом стало меньше, но я по прежнему не представлял, что делать с остальными. Помню, как вышел из гостиницы и стал спускаться в переход. Только едва достиг конца недолгой лестницы – и сзади налетел локомотив, ударил в темя, последнюю ступень вышибло из-под ног. Нефть хлынула в глаза и в уши, затопив подземный переход нутряной чернотой недр, я задохнулся и пошел ко дну, но вырвался, прорвал тугую пленку головой и вынырнул, вдохнул. Почувствовал, как спину холодит снежная слякоть, как змеится что-то теплое по шее. И кто-то шарит под одеждой, с придыханием, одышливо. Открыл глаза, схватил его запястье, рука грабителя рванулась, чуть не вывихнув мою: вспугнутый грубый топот прочь – и тишина.
С трудом поднялся на колени, запустил ладони в волосы – остывшие сосульки крови липли к пальцам. Кость, кажется, была цела, но голова шла кругом, и в глазах двоилось: вместо одного – четыре перехода, хоть на все четыре… И, небось, четвертой степени сотряс. Пошарил по карманам: паспорт, телефон на месте, хотя экран и треснул, но нет бумажника. Уже не ведьма, но сама Москва меня обчистила. Сама Москва… Даже когда бы нынче всеми видами открыточными распестрилась, а не темным переходом – все едино, я уж раскусил ее коварство: многоэтажная изба, полная нечисти, поворотилась ко мне задом, к лесу передом. А дальше – хуже. Помню, московских правоохранительных дел мастера меня подняли под руки, решили, что обдолбан или пьян, свезли до выяснения в участок, там взялись стращать: приметы, мол, у меня совпадают с фотороботом.
В участке все было по схеме (кто не знавал, тот, верно, не было молод да ретив): два часа ожидания, и – дверь с табличкой «следователь по особо важным». За дверью в кабинете двое с неопознаваемыми лицами. Те еще упыри, точнее, «бандерлоги», вылезшие из гэбэшных подвалов Лубянки. У следака взгляд исподлобья, темный, кровью налитой – как две черешни вместо глаз. Этот грозил мне показать небо в решеточку. Второй попроще, пошестеристей, помощник. Этот мне за спину зашел, шею в захват локтем и принялся душить, да не на шутку – чувствую, душа подошла к носу, чуть чихнешь, и дух вон. Да только – стреляного воробья стращали. Едва меньшой упырь ослабил хватку, я кровью сплюнул им на ковролин (губу разбили еще по дороге), носком растер и говорю: «На ДНК-анализ для прокуратуры». Всего и дел. Мне нравилось всегда это рычащее словцо «прокуратура», волшебное почище заклинания «сим-сим, откройся».
Двое переглянулись, завели про «мировую», про «на тормозах» и предложили перекур. Нахваливая конфискат, набили самокрутку. Последнее, что помнил: как от красного глазка той сигареты заплясали огоньки в глазах у бандерлогов, недобрые, болотные. Зрение начало расфокусироваться, я тогда решил – от недосыпа и от заплывающего глаза (левый подбили по дороге), и я узрел два масленичных, салом обтекающих блина вместо физиономий оперов. Потом куда-то повезли. Подумал было – в лес, но не в багажнике, на том спасибо. Очнулся то ли в сквере, то ли в парке, то ли на бульваре. Глухое время: тени предрассветные уже сгустились, а петухи кричать еще не думали. Да и какие петухи в Москве?
Глянул, который час: мой поезд полчаса как отбыл от платформы Ленинградского, и можно было выбросить билет. «А все ж таки она тебя надула, ведьма…» Думал усмехнуться, но не попадал зуб на зуб, губы задубели. Не только темнота сгущалась, но и холод все сильнее жал в объятьях. Добравшись до какого-то проспекта, я голосовал, но редкие авто не тормозили. Да я б и сам себя такого брать не стал в попутчики.
Дошел до Пушкинской, дохнувшей мне в лицо теплым со сна зевком подземки. Скатился вниз по эскалатору. С трудом удерживаясь на ногах, проехал перегон до Краснопресненской, где ходит по цепи кругом ученый поезд. Войдя в вагон на Кольцевой, главной московской колыбели для бездомных, я сел напротив схемы метрополитена и уснул под гул и перестук, покуда поезд нес меня на Комсомольскую и площадь трех вокзалов – «на два часа» по циферблату метрополитена. Мелькали станции, которым выпало быть самыми помпезными и по-имперски щедрыми декором: мозаики, лепнина, витражи, колонны, арки, люстры…
Короткий сон, явившийся на Кольцевой был странен. Я сквозь опущенные веки видел ту же схему, но в клубке из линий ожили тройные пересадочные станции, тех было ровно семь, я видел, как внутри переплетаются, закручиваясь и виясь, их переходы – узлы-наузы метрополитена. В верхнем углу вместо гротескной «М» явилось странное «М45», а подле шли слова «Семь звезд в созвездии Стожаров», и я гадал: что за дремучее словцо – Стожары? Горячее, будто перо от Птицы-жар.
А сразу следом вспыхнул красный стоп-сигнал под веками – сон встал, и я очнулся, стиснутый с боков людьми, щурясь до слез от солнечного диска. И вышел на платформе Выхино. Состав вильнул хвостом, и я один остался на платформе. «Она опять перенесла тебя с ветки на ветку», – подумал, но уже не удивился, как забросило меня сюда, какими чертовыми червоточинами белокаменной, какими не прорытыми ходами. И кто «она»? Девица с Ленинградского? Или опять – сама Москва? Попал в руки к нечистой силе, это уж как пить дать. Поймали на крючок, теперь тянули, глубоко проглоченный, из распахнувшегося изумлением и болью рта, тянули, рвали с мясом, раскровляя, бередя по живому.
Пошарил по карманам. Мелочь – разве что на бутылку пива. И карточка метро. Может, и впрямь мне стоило припасть к бутылке, присосаться к горлышку, чтобы взглянуть в лицо столице, как на изумрудный город, сквозь зеленое бутылочное донце? Давно сгорела ментовская сигарета с конфискатом, но, похоже, наркота все еще не перегорела в теле. Я умывался снегом, глубоко дышал морозным воздухом и тер лицо, но делалось все хуже. Голова раскалывалась, начало знобить. Мысль о тепле подземки грела. Перебежав пути, я втиснулся в состав до центра. И сразу за Таганской полегчало: мигрень стала сходить на нет, и отступила тошнота. В давке я отогрелся от озноба и блаженствовал без боли.
Скоро состав пробил Кольцо навылет, понесся к Планерной. И тут лоб снова заломило холодом – в том месте, где запечатлелся ведьмин поцелуй. Так в детстве холодит лоб лимонад со льдом, выпитый залпом. Я снова тер лицо ладонями, не помогло. Мелькали станции, и делалось все хуже. Вагонный свет стал нестерпимо ярок, перед глазами заплясали блики, вновь стало мутить. Скоро, не в силах вытерпеть, шатнулся к выходу, протиснулся к дверям, те ахнули, распахиваясь, люди хлынули, как рвота изо рта.
Скоро я понял, что, едва оказывался за пределами Кольца, мигрень мне стискивала лоб железной хваткой. Если пытался выйти из метро на улицу, меня рвало. Нечистая не выпускала за периметр Кольца, не позволяла подниматься на поверхность: чуть вынырнешь вдохнуть, и тотчас надо погружаться, торопясь, грести до дна. Я пробовал и так, и этак, но даже травянистой Люблинско-Дмитровской веткой, тринадцатой, единственной из радиальных, что так и не пересеклась, черт знает почему, с Кольцом, не смог выбраться из очерченного ведьмой круга. Не соврала она, когда, поцеловав, пророчила: «Будет напоминать о данном обещании». Надела призрачный ошейник мне, чтобы теперь, натягивая поводок, все глубже увлекать в сыру землю метротоннелей. Сегодня, значит, приковала к Кольцевой, а завтра что предпримет? Допустит до границ Большого, строящегося метрокольца? На Третий пересадочный сошлет? Или потянет волоком к конечным, к тупиковым выростам, аппендиксам, московских веток – с их вонью переходов, пестротой тряпья с лотков и грязью люмпенских кварталов?
Остановился – дух перевести, подумать – в самом солнечном сплетении столичных радиальных, на Арбатской. Застыл у столика метро-буфета над стаканом кофе. Достал путеводитель: двадцать восемь станций в круге Кольцевой плюс по периметру еще двенадцать. Многие из кружков уже чернели, заштрихованные мной. Давно вычеркивал их, еще прежде, чем поспорить с ведьмой. Но иероглиф схемы оставался непереводим, как дырчатая перфокарта, и черные кружки, что шоры, только сужали поле зрения, пространство для маневра.
Зачем зачеркивал? Вопрос хороший. Царь-пушка в белокаменной имелась и Царь-колокол, что до меня, то я все месяцы, что жил в Москве, вынашивал царь-цель. Не раз хотел все бросить и уехать, но не уезжал. Остался к белокаменной должок, хотя Москва сама любила предъявлять счета – за свет, за воду, за еду, за самый воздух в моих легких, полный ядов и духов. Был у меня в Москве один незавершенный разговор, вот только собеседник – многоликий. Собеседницы. Помимо тех, что на одну ночь, имелись у меня в Москве другие женщины – на пару слов.
Бывают крестные отцы, приемные и даже – только нареченные. Что же до моего… Я про себя именовал его отцом неназванным – из тех, кого не поминают всуе или к ночи. Как у Христа не счесть невест по монастырским кельям, так и у моего отца не счесть было любовниц в белокаменной, где он провел несколько лет после того, как выпустился из Военно-медицинской академии, и перед тем, как выехал в Чечню в составе группы усиления. Список имен и телефонов-адресов его былых возлюбленных, который в свое время стоил мне приличных средств и деликатных связей, теперь служил закладкой моему путеводителю.
«Кто б мог подумать, – восклицали все они при встрече, – что у него и взрослый сын!»
«Сам поражен», – делал я вид, что пошутил.
Я собирал их по Москве, как стекла выпотрошенного калейдоскопа, и каждая несла фрагмент изображения – кто-то вполне читаемый сюжет, а кто-то – линию, изгиб, оттенок. Одни из стекол были крупны, и сквозь них я мог, не щурясь, посмотреть на солнце своего отца, другие были мелки, дробны, третьи вовсе стерлись до стеклянной пыли. И все-таки для воссоздания нужного преломления они нужны были все до одной: я должен был восстановить его портрет, запечатленной их сетчаткой, сохраненный в их воспоминаниях, их кожей, их сердцами. Мне требовалось знать об этом человеке все. Порой казалось: вот-вот ухвачу нечто значительное. А порой – что занят я не более, чем воссозданием картины преступления по содержимому желудка трупа. Тогда накатывало отвращение, апатия. Тогда с особенным садистским чувством (с каким, должно быть, иглами пронзают куклу-вуду) вычеркивал женские имена из списка, заштриховывал их станции на карте метрополитена, и уже мало оставалось адресов, где я не побывал еще. В такие дни я порывался бросить все, уехать из Москвы, вернуться в Петербург. Но вот, поди ж ты, так и не уехал.
Теперь, выходит, ведьма заперла меня в Кольце, чтоб не убег. Зачем? После того, как посетил «Белград», одним конвертом стало меньше, но я по-прежнему не представлял, что делать с остальными. Если задумала похоронить меня в метро – что ж, в остроумии ей не откажешь. Но главное другое: чертова девица знала что-то о моем отце, чего не знал никто, она показывала мне его, пусть издали, и эту информацию я должен был извлечь любой ценой – пусть даже размозжив ей череп.
Крепчал час-пик. Мелькали конфетишные кружки на схемах, составы кольцевой слились в электро-уроборос. С упорством рыбы, по речным порогам прорывавшейся на нерест, я взрезывал густевшую толпу. Обобранному в многолюдьи вольно, нечего стеречь: не нужно, поминутно проверяя, чувствовать локтем карман, ребром бумажник. Бесцельно двигался только затем, чтобы не выделяться меж других. Жара и теснота душили. Порой я прибивался к ожидавшим на скамьях, но долго выносить снующие мимо потоки было тяжелее, чем передвигаться вместе с ними, и отдавался воле человеческой стремнины. И ощущал, как стискивается вокруг меня метро – не только стены жмут и потолок грозит обрушиться, но весь великий метрополитен-удав сворачивается вокруг меня, чтоб придушить, чтоб натянуться на меня черным чулком тоннеля и переварить. Видел: Москва торопится, отстраивает новое кольцо, объединяя Третий пересадочный и недовоплощенную Большую кольцевую, и даже неосуществленное когда-то Малое кольцо, подземный отголосок, отражение Бульварного, сжимает у меня на горле.
Я вспоминал явившееся мне с утра воспоминание о Метрополе – оно, как лишняя деталь, не находило места, не давало мне покоя: понять не мог, откуда взялся в том сюжете невозможный антураж ранних Советов. Только ли оттого, что я застрял в Москве, которую перековал железный вождь: недвижное передвигал и необъятное охватывал? В Москве, которую нарком Ежов чуть было не нарек Сталинодаром? Но скоро мне и Метрополь начал казаться лишь наземным выростом, придатком метрополи-тена.
Я прислонился лбом к стеклу вагона, и в отраженьи того зеркала, где вместо амальгамы – чернота тоннеля, увидел разные зрачки в своих глазах. Правый остался прежним, левый же по радужке расплылся нефтяным пятном, словно один глаз, щурясь, силился взглянуть на яркий свет, другой же всматривался в темноту. Словно одним глазом я видел собственное прошлое, другим – чужое. Словно один предназначался для поверхности, другой – для подземелья. Я долго тер глаза, да все без толку. Такие же зрачки я видел у Трнаваца. Явилась мысль: чем оставаться век в тисках метро, уж лучше сразу тронуться умом, как югослав. В подземке сумасшествие, должно быть, прибывает быстро, одним из поездов в час-пик, толпой теснит, толкает к краю – пересечь ограничительную линию края платформы…
Что знал я о столичном метрополитене?
Ленинское метро – большое коллективное надгробие: в тридцатых, в лихолетье, полное самых безудержных репрессий, его копали зэки, сами без пяти минут покойники, мостили стены мрамором со старых кладбищ, где на костях росли микрорайоны светлого соцбудущего. Крысы, говорят, в московском метрополитене бегают – величиной с батон, в пространстве-времени бывают дыры, в кабинах – машинисты-монстры (зубы в три ряда). На полустанке между Щукинской и Тушинской есть оборотень, и ему еженедельно скармливают пассажира, задремавшего в вагоне. По перегонам призрачный обходчик шаркает.
Может, не зря в девятисотых духовенство выступало против метрополитена, и лихачи-извозчики с трамвайными лоббистами отстаивали неприкосновенной землю под столицей? Греховней, чем подкоп под преисподнюю, только мечта пробить небесный купол. Теперь метро-пустоты под Москвой – гигантский пневмоторакс города: сперва лишь боль отдавленных ступней и затрудненное от духоты дыхание, и учащенное сердцебиение, приступы кашля у астматиков и приступы панического страха у клаустрофобов (кажется, в перечне синдромов метрофобия уже стоит особняком), а там, глядишь – в один прекрасный день – р-раз и коллапс. И легкое Москвы спадется, вызвав остановку сердца, паралич столицы. Тогда выходит, что дворцовые красоты станций, призванные поражать дремучий пролетариат, как храмы поражали варваров – лишь отвлекающий маневр преисподней, потревоженной до срока. Геенны огненной, куда так широки врата, пусть даже забранные строем турникетов.
Рыжая девчонка эта, выхватила меня из потока, дернув за рукав в толпе на Трубной. Субтильная, с наружностью набоковской нимфетки: тонкие ходули-ноги, за которыми будто не поспевает тело. Мальчишеский наряд. Шарф – долгий, как она сама, трижды обвит, а все равно концы свисают чуть не до земли. И кажется: еще виток – сама себя задушит, как Дункан. Знакомое лицо… Должно быть, примелькавшийся типаж. Рязанский? Волжский? Она протягивала мне пакет: «Подарок для тебя». Я машинально взял. Рыжая тотчас сиганула прочь и сгинула, ввинтившись в набегавшую толпу.
Я повертел в руках приобретение. Для бомбы слишком легкий сверток. Наркота? Чуть надорвал фольгу. Прочел на упаковке: «Чай травяной. Состав: трава-ежовник, ключ-трава, плакун-трава и одолень-трава». И подпись понизу курсивом: «От нечистой силы». Впору, право. Я усмехнулся и тут вспомнил про столичную традицию – о том, что пятничными вечерами молодые добродеи собираются на Трубной, дарят первым встречным немудрящие подарки. Значит, и я попался под руку. Достал мобильный посмотреть, который час (ну точно, семь), а вместе с тем увидел дату: пятница… тринадцатое. Ну естественно, куда ж без этого!
Что знал о нечисти? Нечисть не одного креста нательного боится, но – вообще железа. Однако все, чем был богат: связка ключей и мелочь по карманам. Мне бы теперь железа граммов восемьсот – литого и с приличной скорострельностью. Дареный сверток не прибавит веса. Впрочем, и не оттянет рук. Сунул в рюкзак. И тотчас полегчало будто бы. Проверил ощупью нутро – неужто в самом деле отпустила маята?
Двинулся к переходу на Цветной – сперва бочком, бочком, по стеночке, потом отчаяннее, через перегон к границе Кольцевой, шагнул на эскалатор Менделеевской – и всплыл к поверхности асфальтового моря. Вырвался! Вдохнул московский воздух и прислушался к себе, но тошнота не колыхнулась. Вместо нее голод обрушился, как будто отроду не ел – до ватности в ногах, до головокружения. Над городом горел закат. К вечеру подморозило, и было ветрено, пар рвался изо рта, трубы над крышами дымили косо. Рядом светился ресторан, где прямо за дверьми апрельская Москва сменялась солнечным Востоком: долма, пилав, кебабы, пахлава, лукум и сказки Шахерезады, но я подле него стоял, как нищий Насреддин под стенами роскошной Бухары.
Мне нужно было где-то ночевать и чем-то ужинать. Я позвонил очередной из женщин в списке, и она сама назначила мне встречу.
Встречаясь с ними, я хотел понять отца: что находил в них, отчего была нужда перебирать столь многих, но – столь, по большому счету, одинаковых? И как умел он избегать опустошающего пресыщения? Порой казалось, что я понимал его: он, полагаю, относился к ним гастрономически, почти каннибалистски. Повадки критика-гурмэ, людей перебиравшего, как явства, глядевшего им в души на просвет, как на вино в бокале, при нем остались до сих пор, только теперь он чаще морщился, чем смаковал. Такими, видно, были для него и женщины – жертвами, если не жратвой.
Одни из них по-прежнему шли дорогой закуской под аперитив, роскошные и моложавые. Другие расплылись, обветрились и выдохлись. Были румяные, что видом воскрешали монархическую сытую Москву: какой Охотный ряд без стерляди, без балычка, икорки, маринованных грибков? Другие выцвели, как коленкоровая «Книга о вкусной и полезной пище», 55-ый год издания, шмудститул с обращением Вождя, на обороте – редколлегия (набор фамилий в голове рисует карту союзных республик), не книга – кулинарный манифест компартии, где даже фотороскошь иллюстраций аскетична – не полноцветна, а подкрашена.
Впрочем, что говорить о женщинах, если сама Москва немыслима без гастрономии? Закуски старины увековечены в топонимах (вроде Кисловского с Солянкой: чуть произнесешь – и вот уже оскомина во рту от квашеной капусты, сельди, пряный дух кадушек, кадок, бочек). Еще так свежи в памяти излишества номенклатурного меню в пику аскезе гастрономов для трудящихся с прилавками, полными лишь прозрачности березового сока. И наконец – вон она, подле, за стеклом – роскошь новомосковских ресторанов, где кухня высока, что башня «Федерация». Где яства на просторе блюд являются, как ювелирные изделия, диаметр тарелок жаждет перегнать столешницы, ингредиенты на вес золота – эмаль желе, финифть и нитка карамельной паутины, жемчужины молекулярной кухни, по белому полю фарфора – соусные кружева.
И строилась-то белокаменная, как варилась: без верного рецепта, на глазок, без цельного ансамблевого замысла – тут подсолить, там подперчить, добавить этого-того (воронью лапку? мухомор?). Где-то блин комом, где-то калачи висят амбарными замками. Где каша гурьевская, где – из топора. Где ложка в гуляше стоит, а где-то жидки щи – хоть портки полощи. Да только, сколь не разевай рот на московский каравай, все уходить, несолоно хлебавши. Не про нас тот квас, и пиво-мед, бежавши по усам, все в рот не попадают.
Голод крепчал во мне, как винный градус, и оттого в уме бродили продовольственные аналогии. Весь день в метро мелькали у меня перед глазами бесконечные пролеты лестниц Эшера – то эскалаторы, то переходы. И оттого по ровному асфальту мне шагалось непривычно, как на неродных ногах. Идти было не близко, до Зоологического, но зато почти что по прямой. «Опять в кольцо», – мелькнула мысль. Но лучше поверху, чем под землей.
Она открыла с первого звонка. В платье с запа’хом, что еще сильней старалась запахнуть и теребила ворот. Я мало знал о ней. Она была из тех, кого я относил к «больничному» периоду его московской жизни. Из вечных лаборанток, каковых не увольняют – списывают вместе с реактивами, в чьем гардеробе нет вещей без пулевых отверстий капель кислоты; из тех, которые с годами сами истончаются до хрупкости химической посуды, и не песок с них сыплется под старость, но стекло течет, а в голосе проскакивает козлетоном перезвон реторт и колб. Все еще моложавая, но уже тронутая будущим, где поджидала старость.
Чем глубже уходил я в биографию отца, в те годы, где он делался моложе, тем все заметнее старели женщины, что открывали дверь передо мной. И я уже готовил себя к собеседницам чуть ли не вдвое себя старше, ибо, погружаясь в прошлое, нарочно продвигался от последних к первым.
– Так вы, значит, и в самом деле его сын? – спросила. – Кто бы мог подумать…
Я усмехнулся:
– Сам бы не поверил.
Мог вольничать. Я знал, какое впечатление произвожу на этих женщин: такой же, как и тот, разве на двадцать лет моложе – оживший призрак их ушедшей юности. Я не настолько был похож на своего отца, но эти женщины сами искали сходства, сами и отыскивали. Одна беда: на сей раз на лице у меня были свежие следы побоев, я видел: она смущена и не ждала такого поворота. Опередил ее вопрос, ответив, как когда-то говорил мне на латыни мой неназванный отец:
– А, ерунда, injuria realis. – После чего без приглашения шагнул в прихожую и уже сам хозяйке задавал вопросы, а та отвечала, ослабляя бдительность, все более покорно и податливо.
Ушел от вечной лаборантки за полночь. Мог бы остаться до утра, но взять с нее уж было нечего.
На улице в лицо дохнуло талым снегом и метаном. Было по-прежнему промозгло, мокро, ветрено. Снаружи, несмотря на холод, сразу потянуло в сон. Решил зайти к одной своей – из тех модельной внешности девиц, что растворяются без макияжа и должны всякое утро наново срисовывать себя с журналов. У этой можно было денег взять. Жила недалеко от Плешки, и, как Веничка – все к Курскому, так я по новой устремлялся к Ленинградскому вокзалу.
Подле кирпичного зубчато-башенного сердца города, покинув русло Моховой, свернул. Начищенное лбище нулевого километра, где собирают туристическую дань бомжи, пустело и поблескивало тускло. Прошел Красную площадь по касательной, взглянул на ГУМ, по-новогоднему в огнях, и храм, собранный из часовен. На площади велись раскопки, перебирался каменный кроссворд, клеточка к клеточке – брусчатку, вздыбленную гусеницами парадных танков и колесами пятидесятитонного «Тополя-М», раскладывали наново.
Прошел по Ветошному, где все ветоши брендированы, лапти – замша, Elnaturalist, с тиснеными лягушками на каучуковых подошвах. Недаром у столицы имя квакает: граница между нищетой и роскошью в Москве, как грань между водой и воздухом для утопающего в омуте – тонка, но не преодолима.
Пройдя Никольской, вышел на Лубянку. В подземный переход сходить не стал, зарекся (недолго было и «…в гробницы сойти таинственную тень»), пошел в обход, мимо Политехнического, где бульвар Лубянского проспекта круто падает от стен музея до Славянской площади, к памятнику героям Плевны – той из бесчисленных русско-турецких войн, за которую сербы по сей день так любят русских. Оттуда вышел на Мясницкую, рыхлую от нечищеного снега, где от изжившего себя топонима по-прежнему попахивало тухлой тушей, и мнилось, что в гудящем свете фонарей вьются лоснящиеся изумрудом мухи. Все глубже уходил в дремучее московское барокко, и быстро меркла память о сияющем подземном сталинском ампире метрополитена.
Холод крепчал. Мясницкая была пуста, лишь позади по киселю нестаявшего снега шлепали шаги. Я шел и уговаривал себя не оборачиваться, не переходить, поддавшись инстинктивной панике, на бег. Когда шаги ускорились и стали нагонять, не выдержал и оглянулся.
Он оказался ближе, чем я думал, прямо за моей спиной – взлохмаченный старик в тряпье, нос провалился, а глаза навыкате, мутны и пьяны злобой, – и тотчас в горло мне впились костлявые сырые пальцы.
– Киздялэ дупэ кап! – Беззубый рот дохнул на меня склепом. – Деньги где?! Верни мне деньги! Сы ти фут ын кур прин гуры!
Если б и были деньги у меня, уже не смог бы дотянуться до карманов – только царапал гроздь холодных липких пальцев, точь-в-точь жабьих, стискивавших горло, разевал рот, не способный более вдохнуть, таращился в смыкавшуюся черноту. Все помутилось, затуманилось, и ноги подогнулись, онемев. Уже не чувствовал, как повалился наземь, в мясное снежно-соленое месиво. Прошла, перешагнув через меня, извозчичья ломовая, чиркнув по запястью мохнатым копытом, раздробив кости подковой. Полозья саней взъехали тяжело, взгромоздились на грудь – ни вперед, ни назад, продавили грудину, треснули под ними ребра. В санях тех ездил в свет Онегин, на дуэль – Ставрогин, так ездил бы и мой неназванный отец, случись ему родиться в век сословий, – кутить и растлевать – в тяжелой шубе: мех колкий и так остро пахнет зверем; и слышен, удаляясь, говор Ваньки: «Шуба и есть у нас, да на волке пришита… Волк ентот съесть хотел кобылу, но дровами подавился… А потому, что лошади все ночью вороные… Дни меркнут ночами, а человек печалью… А что до печалей, так беды и печали на почтовых примчали… И крепка могила, да охотников в нее мало… Перед судьей да перед смертью замолчишь… На солнце и на смерть во все глаза не взглянешь…»
И меркнет все.