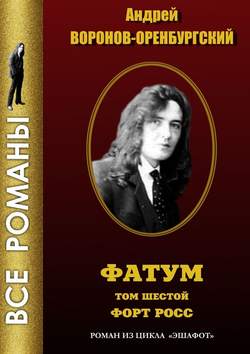Читать книгу Фатум. Том шестой. Форт Росс - Андрей Воронов-Оренбургский - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1 Гордиев узел
Глава 5
ОглавлениеМстислав провел рукой по подбородку и почувствовал, что он крепко покрыт колючей щетиной. «Вот незадача… Пред командирские очи являться… а я зарос, как огород чертополохом».
Уставший отряд, поднимая облако бурой пыли, повернул на северо-запад, туда, куда уходила пробитая копытами и колесами повозок дорога… За дальними лысыми холмами скрывалась родная сторона, форт Росс, и те, кто в беспокойстве и маяте ожидали их приезда.
Сотник безрадостно поглядел с пригорка на вечерний лик открывшегося океана. Его темная вода отражала нависшее громадьё сажевых туч, как темное зерцало.
– Ну что вы, батюшка, темней воронб крыла? Все же к дому подъезжаем. До ночи поспеем. Хозяйки-милахи чой-нибудь пожрать на стол соберуть. Выпьем с дороги, баню затопим… Чай, не на смерть едем, к своим.
– Не такой час, братец, чтоб душу в водке топить да галдеть, не такой… Война – не маковый рулет, десятник… Кровь да грязь, невинные души побиты будут… в коли-чествах – страшно подумать… Живодерня, сам знаешь… А самое главное – бессмысленная бойня-то будет… Ах, душа ты, душа моя, – Дьяков сглотнул полынный ком, что морским ежом стоял в горле. – Веришь, брат, жить мне не в радость. Уж лучше сгинуть быстрей… И это тогда, когда земля семян ждет… Да что ж это, Константиныч? Отчего жизнь устроена криво так? Из века в век бойня… Всё о морали толкуем, а где она? Где?! Что двести, триста лет кровь лили, так и ныне за штык беремся… Доколе зверь жить в людях будет? Доколе во кровях гибнуть?
– Ай, опять вы свое, ваше благородие, – десятник хмуро сгорстил рожь усов. – Тошно… вестимо тошно, однако ж сколь душу рвать? Уж что на судьбе написано… стало быть… Вот ты не поверишь, Ляксеич…
– Ты прав, голубчик, я не поверю.
– Да ты погодь, погодь, вашбродие! Ай, опять рукой машете… Ну будя, будя вам. Вы вот сами-то знаете, где вы у меня со своей хмурью сидите?
– Нет, братец. Но знаю, где у меня ты. И не рассчитывай, что я нынче не чаю в тебе души. Лучше отстань. Скверь у меня одна на языке, да и на сердце тож. Что я скажу его превосходительству? Что не смог, не сумел обуздать испанца? Что бес попутал меня, али черт встрял?
– Да полноте, ваше благородие. Мать ее, суку!.. Как есть, так и рубаните. Мы-то, как будто, не в малине сласти искали. При вас были, подтвердим клятвенно, так мол и так – не хочут испанцы лада с нами. Сосуть кровь нашу, твари! А уж на то воля Господня… Хлипкая сия посудина – политика, не для насекомого ума, хотя и у нас в душе свои мажоры с минорами имеются. Ну-с, что вы примолчались, батюшка Мстислав Ляксеич, колосок вы наш золотистый?.. Не боись! Дале как проживать будем – время подскажет. Прикончим давай мы енту разговору. А еж-ли чо, я уж не раз тебе заговорил: пики к бою, сабли вон, и айда. Ужли мы не казаки? Тогда на кой хрен мы тут кобылам хвосты чешем да сталь точим? Наши еще дадут им чистоты. Морду-то им собьем в сливки за Россию-Мать.
– Ладно, будет брехать, Борис Константинович.
Сотник придержал коня, приказав подтянуться – подъ-езжали.
Закат окутал алым воду, горы, леса. Чисто и далеко слышался визг двуручной пилы, распускающей лиственничный брус.
– Прихватить крючки, ремни подтянуть, братцы! – сотник стегнул меж ушей плетью вставшего на дыбы жеребца. – Вот-вот сторожевик в колокол ахнет. Ну, голуби, с Богом.
* * *
– Батюшка наш, Иван Александрович, велели-с вашей милости без промедления к нему в комендантский дом ступать. – Федор Колотыгин, мелко жмурясь глазами, обнял спрыгнувшего с коня сотника. – А ну, отойди, бабы, дайте пройти их благородию-с! Да скотину отгони, Дарья! Куды ты с коровьим навозом?
– Ну, спаси нас, Христосе, угодил! Вернулись наши защитники! – жены и матери приехавших казаков не прятали слез, бросались обнимать своих, растаскивая их по домам; дети сноровисто отгоняли прутками коней и принимались таскать воду для бань; едко и тепло пахнэло дымком, смородиновым листом и мятой.
* * *
– Ну-с, голубчик, и как у нас насчет любезностей с Монтереем? Оживи душу… Дай надёжу… Сердце уж какой день к ряду растравлено!
Иван Александрович не удержался, как мальчишка сорвался со стула, заключил в объятия сотника.
– Катенька, душа моя! Ну что же ты, право, не привечаешь Мстислава Ляксеича? Садись, брат, в красный угол, вечерять будем, разговор держать. Катерина, свечей купнее запали. Да ты в самовар-то не смотрись, брат: не зеркало, много не узришь. Хорош, как хорош, квасу иль чего изволишь с дороги домой?
– Здравия желаю, ваше превосходительство. – Мсти-слав щелкнул каблуками, мертвенно бряцнув шпорами.
Всю дорогу от терзался предстоящим свиданием. Он зело любил своего отца-командира, безмерно уважал и его тихую, ласковую жену, но теперь… Самая война и возможная гибель русской фортеции во всей ее чудовищной нелепости, право, виделась ему проще и казалась не столь страшною, как сии мгновения, выпадающие как бы из времени, как бы из самой прежде понятной и логичной жизни. «Боже правый, как же прикажешь нынче смотреть в глаза, как прикажешь говорить, как отвечать, как думать?» Самое простое сотнику казалось: по форме рапортовать о случившемся в Монтерее и поскорее, без лишних слов и объяснений, покинуть комендантский дом, но именно это самое простое и стало нынче непостижимо сложным, ужасным в своей нечеловеческой жестокости.
Смущало и другое: Дьяков не помнил Ивана Александ-ровича таким словоохотливым, с тревожно сухим, лихорадочным блеском в глазах. И хотя сильная воля и жизнь, сидевшие в нем, расцвечивали его бледные сухие щеки румянцем, румянец этот казался нынче болезненным, точно крапивный ожог, точно жаркая сыпь лихорадки, что схватила и цепко держала в своих объятиях здоровую, крепкую плоть.
– Ложка лучше чем пистолет, Мстислав Алексеевич, не дает осечки… Прошу вас к столу, – Катерина, качнув полным бедром, поставила на стол дымящуюся латку с рубленой индюшкой и томленной в масле фасолью. – Сколько ни предлагала отведать красавцу своему – полный отказ: ждал вас, голубчик… вы уж не откажитесь, ради Христа.
Хозяйка улыбнулась Дьякову мягкой индейской улыбкой, в которой читалась скорбь, и тихо, едва слышно, шепнула:
– Ой, съест он тебя, ежли дурну весть привез. Будь осторожен. Весь день киснул да каменел лицом.
– Катерина! – ложки с тарелками сердито звякнули, дрогнув на столе. Кусков недовольно кольнул взглядом жену. – Что-то ты нонче стала на вздох глубока да на слезу скора. Смотри, не лезь в мужье дело. И не жалься, всех слез не вычерпашь. Да цыть ты! А не то живо провожу отсель. Ох уж, эти бабы, брат, – комендант покачал седеющей на висках головой. – И жить с ими нельзя, и застрелить жалко. Благо, что хоть правда и сила за нами, а не за юбкой… Ну да ладно, не томи боле, что велел передать губернатор?
– Что будет драться до последнего испанца.
В наступившей паузе слышно было, как в опочивальне по-бабьи глубоко и жалобно охнула Катерина, задушив свою скорбь в подушке. Однако лицо коменданта не дрогнуло, лишь крепче взялось испариной. Оставив ложку в тарелке, он долго глядел на неровное пламя свечи, после чего сухо изрек:
– Что ты?
– Сказал, что ежели его высокопревосходительство жаждет сего, то русские крепко противиться не станут… И если до последнего, то значит до последнего испанца.
– Ну что же, так… так-так… Укрой и оборони нас, Царица Небесная! Нам надоела вся эта война, только с французом сладили… Сыты по горло… А испанец, похоже, наоборот – голоден.
Кусков, оставаясь неподвижным, заложил правую руку за борт кафтана, совсем позабыв про тушеную индюшку. Помолчали. Командир странно улыбнулся, слушая нежный свирист русского сверчка, бережно привезенного в берестяной коробке из-за океана. Душа тосковала по баюкающей колыбельной… Америка такого «певуна» не знала… Цикады трещали совсем не так, на чужом языке, и резали слух, как кавказская иль цыганская речь на русском базаре.
– Мал жаворонок, да петь умеет; ворон большой, да только каркает. А этот мил, шельмец, – комендант тепло улыбнулся морщинками глаз. – Здесь и соловьев, брат ты мой, нет… А как бы их щас сердце послушало…
Сотник согласно кивнул головой, зачерпнув ложкой фасоль.
– Все беды на земле из-за зависти, друже. Именно здесь и завязался на русско-испанской нитке узел. Видишь ли, – Иван Александрович процедил сквозь зубы спертый воздух избы. – Испанцы слабы, потому и жестоки. Наша землица в этих местах для них как красная барышня на выданье… Вот они, мать их… и делают в нашу сторону кобелиную стойку. Продержаться нам след до подмоги, есаул58. Ежели мы только им сейчас хоть щиколотку оголим из-под юбки, опустим ресницы – затопчут как девку, разорвут. В наступлении испанец смелее льва…
– Зато в отступлении хуже зайца, – Мстислав зачерпнул из ароматно дымящейся латки добавки. – Наши тоже суровы в своей удали. А я после его угощенья, Иван Александрович, затаил обиду крепкую. Говорил ихний губернатор со мной, как с сопливым мальцом… Правда, пригласил к себе после часу терпенья нашего у крепостных ворот…
– Но всё ж пригласил?
– Так, для регламенту иль почету… А может, и просто место было, чтобы унизить, значит.
– Тьфу на них, Мстислав! Сгори оно всё! Я-то уж знаю тебя, гордость моя… Верю: на рожон не лез, терпел, покуда мог, спесь их… Главное, что вернулся… Эх, тары-бары, к нам приехали гусары… Вот уж припало от тебя услыхать… – Кусков, тяжело вздохнув и перекрестившись, взялся за остывшую фасоль. – Ну, а как там у них вообще обстановка? Кони справные? Успели поджиться на братоубийстве? Своих же резали бунтарей…
– Остроги по швам трещат – то верно, Иван Александрович, народу тьма нахватали… Но то нам, я понимаю, только на руку! Переруби у бочки обруч – она сама и рассыпется, так?
– Всё так… Но, один черт, острастка берет. Старое правило время помнить: «Ежли не можешь выиграть – не ввязывайся в драку». Это, кстати, Мстислав Алексеевич, тоже выигрыш… более слабого. Будем стоять до конца. Знаешь ведь как: и на печи лежа помрешь, и на войне Бог милует.
– Русские должны либо побеждать, либо умереть, так уж повелось у нас на седой Руси. Ну, а то, что нас мало, ваше превосходительство, не тужите. Зато в бою тесно не будет. – Дьяков обстоятельно вытер платком блестевшие от масла губы и, придвинув оловянную кружку с надписью «Берегись, душа, утоплю», подул на коньячного цвета кипяток. – Конечно, тошно всё… Там, где развевается русский флаг, крови, по идее, быть не дулжно. Но такой уж у нас крест… Горек и труден солдатский хлеб. Руки в крови, мундир в грязи, зато душа чистая.
– Вот только совесть, – Кусков поник головой, ероша пальцами волосы. – Разве мыслил я когда, голубчик, что мне придется именем России, Отчества нашего, проливать кровь, жечь дома, сеять гибель? Ведь понимаешь, друг мой, – Иван Александрович подался грудью к Дьякову, глаза его горели волненьем и болью. – Совесть ведь еще долж-на быть… Поедом меня ест! Тяжко.
– А вам не кажется, – сотник решительно отставил недопитую кружку, серьезно глядя на командира, – что совесть губернатора иль ставленника крепости, как вы… и совесть, скажем, простого зверовщика – сие рещи разные?
Кусков усмехнулся в кулак, всматриваясь в светлые, преданные глаза есаула, и молвил с укором:
– Да разве у человека может быть две совести, два сердца, две души? Нет, есаул, может, у кого и есть, да токмо не у русака.
58
Есаул – казачий капитан.