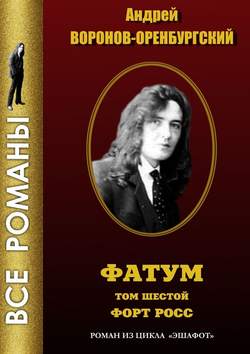Читать книгу Фатум. Том шестой. Форт Росс - Андрей Воронов-Оренбургский - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1 Гордиев узел
Глава 7
ОглавлениеЗа сараями, где размещались байдары алеутов, близ пач-ки сосновых бревен неспешно текла задушевная беседа. По-сле долгой дороги в седле, после бани и чарки водки, после пирога с зайчатиной дым табака был в особицу вкусен.
– Вот ить как человек застроен, Иваныч, – Худяков легонько боднул локтем глядевшего в небо Щербакова. – Сколь ни ешь, ни пей, а опосля еды плоть завсегда отчаянно табачку требоват. Эй, эй, ты чаво рот на замке дёржишь? – Худяков, поправляя ворот белой рубахи, шибче толкнул локтем своего приятеля.
– А ты не «эйкай»… «Эй» – так гонют лошадей, понял? Невежественный ты, Сергуша. Вот невидаль – табак… Сам-то понял, чавось сморозил? Ты лучше глянь, звезды-то над нами каки… голубые, светлые…
– Да, большие, – сладко затягиваясь трубкой, откликнулся Худяков и крепко почесал голую лодыжку. – Однако не шибче комарья в гишпанских болотах. Помнишь, проезжали их тростники да осоки… Не приведи Господь, сколь их наслетало, подлюк, да все здоровущие, с кулак, мать их, суку; лошади – и те чуть не сдохли.
– Да, тебя, полудуру нашу, оберегать нады. Уж больно нежен, гляди не разбейся. Ладныть губы-то опять дуть, пустое. С тобой шутют, а ты? Лучше скажи, коня своего отдал Егору перековать?
– Да когда? – Худяков махнул рукой, откидываясь спиной на теплые, нагретые солнцем бревна.
– Плохо… Завстрече и отдай, как бы не угробить скотину. Ты ж его в поводу к воротам-то уже подводил. У него там под бабкой ядрище гною, чуть не с курино яйцо…
– Да знаю я, чай, не слепой.
– Вот и сделай, – серьезно, с какой-то особенной мужицкой основательностью повторил хорунжий и вновь зачарованно уставился на низкую, алмазную россыпь звезд.
– Однако ночь-то какая и впрямь чудная, ровно влажный черный бархат с искрой. Эх, где моя Иришка, любка-голубка? – с мечтательной грустью протянул Худяков. – Знаешь, каки у нее волосы с тяжелой волной, Иваныч, цвету гречишного меда… Обнимет – сердце заходится. Вот тебе и любовь… Эх, где мои вороные? Отзовись, заноза, дай весточку…
– А приданым-то она была купна?
– Да мне довольно и ее красы даже с обманом заместо обещанного. Хотя всё и было. Сложность в другом, брат… Когда сватался. Уж больно грозен тятька ейный был, лютоед, царство ему небесное… Володимиром звали. Мне ж допрежде явиться пред его очи следовало…
– Так не без того, – Щербаков шеркнул наметившуюсь плешь ладонью. – Ну, и?..
– Да я-то чо? Невеста была супротив. Сказывала, дескать, сие может убить родителя… А я тебе доложу: он сам прежде мог каво угодно прибить, что муху… Однак Бог миловал, обошлось без цыганской свадьбы. Всё чинно, всё пучком. Эх, щас бы живой воды напиться да мертвой опо-хмелиться! Как там в песне: всё трын-трава – на плаху голова!
– Да будет тебе о своей царице маяться, сыт… Вот придет срок, поедешь в Ново-Архангельск, заберешь зазнобу… Кагирову Михаилу тожить нады за своей Алиной сбираться… еще ведь как примет баба-то евона?.. Да, не свезло мужику.
– Эх, Николай Иваныч, и что ты за перец-жгун? – Сергей плюнул в сердцах в костер. – Уж как давно знаем друг друга, шестой годок скоре, а ты всё одно: «хватит в блин раскатываться», «маслом исходить», «сыт», тьфу! Хоть бы надежду раз дал на дружеский уголек.
– Да уж… для лошади аль собаки это уже крепкий возраст, ежли не старость. А насчет надёжы ты меня не кори. Я – как наш лекарь… Сколь он кому надёжы из больных дает? Ну, то-то. Федор дает порошки, а не надёжу…
– Так, значит, веры у меня в тебя, как в кота моравского? Эх ты, сухарь. Вот оно и выходит, что из нашей дружбы одна мука. Чужой ты какой-то стал, Иваныч, как ентот месяц. Ни тепла от тебя, ни холоду. Вот тебе и весь мой сказ. А ну, двигай отсель, а то клюну кулаком в морду. – Худяков с грохотом и со шпорным лязгом сбросил ноги с сосновой чурки.
– А я не во гнев скажу, – Щербаков лишь хмыкнул в кулак. – Нельзя из сухаря турецкого щербету сделать. Ну чо ты ко мне завязался? Карактер у меня таков. Ужель не чуешь?
– А мне Панас брехал даве, что ты со мной водишься только из-за того, что мы с тобой земляки, с Урала, значит.
– А ты и уши разаршинил. Ему только брехать… Пана-ас! Хохол – он и есть хохол. Дивно, что мало только наврал. Для него мы все кацапы61, он и в походе на сало жмется, как баба на тряпку. У него и советы-то зачинаются со слов: я вам, хлопци, не советую.
– И то верно. – Худяков, алея ушами, кивнул головой, насупился на себя и принялся постукивать палкой по головне в кострище, сбивая раскаленные, фыркающие угольки. Вдоль складов поплыл аромат ладана. Казарма, как и другое жилье, топилась «душмянкой», аляскинским кипарисом, коего вдоволь родилось и тут, на вечнозеленых берегах Калифорнии.
– А я уж и вправду подумал, Иваныч, что ты только восхищаешься предчувствием моей смерти, – через минуту простодушно заявил Сергей.
– А я всегда думал: ты не боисся смерти. – Николай прислушался к ночи, к тихому миру теней и бликов жемчужной луны.
– Не боялся, пока не полюбил. Мне теперь и жизнь, и деньги во как нужны! Вот сколь, Иваныч, мужик может прожить без еды?
– Черт его мать знает… Ну месяц, полтора… Может быть, два… Бог миловал, не пух с голоду.
– А без бабы?
– Я сим вопросом не мучусь, привык без них… как уж сложится. Змеиное это дело – бабы…
– Экая ты всё же взлайка, Иваныч! То тебе не понять, что тепла ты ихнего, любви да запаху не знаешь. Потому ты и хмурый вечно, что ненастный день… И еще… – Худяков выдержал паузу, обратив на себя внимание хорунжего, и доверительно шепнул: – А ежели по совести… Боюсь я, Николай Иваныч, войны с испанцами… Крепко боюсь… Жестосердие, вот крест, раньше родилось их самих. Уж как своих казнят… ой, люто!
– Эт в точку, – Щербаков распоясал кисет. – Мы за-были об испанцах, ан оне о нас нет. Ежегод на русского мужика зуб точили, а нонче в открытую ереститься62 начали.
– Вот-вот! Когда наш есаул пришел от ихнего губернатора и сказал, что дело «табак», возвращамся, братцы… Веришь, у меня чуть в грудях сердце не разорвалось… Война, значит?..
– А оно и рвется, где тонко, – хмуристо буркнул в ночные усы хорунжий и подцепил из костра уголек. – Черт бы побрал их всех, вместе с попами ихними.
Казак набожно перекрестился:
– Да простит меня за сии слова Иисусе Христе. Не-вольник – не богомольник. Ведь как получается, Сергуша, – хорунжий протянул ароматную трубку товарищу. – Вроде ведь как дружбу водили с ими, а на поверку что ж? Эх, доколе они врагом союзника и союзником врага будут? У нас ведь… боится, скрывает Иван Александрыч ту факту, ан шило в мешке не утаишь. Агличане, милый ты мой, тоже не дремлют. Вот и ты дрейфишь, голубчик, правды, но я открою ее тебе. Ежели только зачнется рубка, красномундирные тут как тут, встанут на сторону гишпанца. Эх, брульянт ты мой изумродовый, – крякнул в сердцах Щербаков. – Одним тешу себя: их сталь рубила многих, а нам выпала честь рубить их, сволочей.
– А ежели их сторона возьмет? – сдавленным, хриплым голосом обронил собеседник.
– Тогда… тогда колупнем взрывом наш форт и уйдем под парусами к своим.
– Вот так итог! – присвистнул взволнованный Худяков. – Решится ли на сие их превосходительство? Это ж всё равно, как плюнуть на русский мундир. Иль грязью его помазать!
– Ну что ты зекаешь на меня, как будто я тебе дол-жун? – хорунжий, сам не зная, куда себя деть, плюнул в костер и выругался: – Эх, будь я собачий сын, а ты то, ты чо посулишь? Грязь на сало – высохла, отпала. Зато жизни сохраним и… Да не глазей ты на меня так, а то шарахну плеткой!
– А ты не пужай, хорунжий! Пуганый! Не ты один пытался шкуру мою дубить! Крестили меня и в морду, и в шею. Ничего… живой. И земля меня носит, и, как видишь, не гнется… Но знай: я хоть и потею душой пред кровью, но сил не зажалею, чоб цитадель нашу удержать! И сам на меня глаза-то не остробучь! Твои мысли и перед Богом грех! Реветь тебе за то в жупеле огня!63
– Замолчи, сопля ты зеленая!
– А ты не свое на себя и не тащи! Ишь, выискался командир! – Худяков матькнулся и поднялся с земли, тряхнув кудрявым чубом. – Я-то думал, ты крепкий духом, а ты… как гнилой кнут… А я еще тебе, дурак, душу свою изливал.
– Вот именно, что дурак, – в карих глазах хорунжего скакали алые языки костра. – Тебе, друже, об одном, а ты Бог знает о чем толкуешь. Может, прикроешь рот, довольно удивительны мне твои речи… Всё передергиваешь. Ведь я же не корысти ради, не ради трусости насчет форта сказал… Ни Боже мой! Знаешь, брат, надо уметь хитрить в этой жисти, а не лоб разбивать под ее ударами. Ну-к, иди сюды, сядь, дурый. Гляньте на него: оборотилась в волка овца.
Худяков после трудного раздумья сел на прежнее место и недоверчиво, чуть не враждебно поглядывая на Щербакова, с мстительной радостью молвил:
– Сесть я, конечно, сяду, но при таком раскладе вещёв мягчить свои выражения не стану.
– Да погодь ты, не стерви! То ли я не знаю, что дело чести каждого казака при защите быть? Черная ты глухота… Афанасьева хоть спроси, бежал ли когда хорунжий? Показывал спину свою? О, отцы-святители, и откуда тебя такого холера принесла к нам? Силов он, видите ли, собрать послухать не может. Линию всё свою гнет…
– А ты не неволь мою душу! – Худяков ударил черенком нагайки по глянцевому хрому сапога. – Так-то оно нельзя тоже. Есть что в пику да в ум сказать – сказывай. А не то я в одноряд уйду. Сиди тутось, считай звезды. А мы премного вами довольны будем, милостивый государь.
– Так вот знай, – Николай Иванович вперил свой взор в замолчавшего казака. – Я ведь о том, что ежли вдруг… Пушки спасти надо… ружья… баб наших, ребятишек… Их-то ведь враг не помилует, всех угонит в полон и продаст в рабство… Неужто ты хочешь, чоб наши девки с басурманом свалялись, а? Тут как ни крути, а бабу с дитями понять можно… Редкая, кто руки на себя наложит при детях, опять же грех великий… А в нужде да боли баба – кошка: кто погладит да молока нальет, тот и хозяин. Ты слухай, слухай, Сергушка, да на ус мотай. Теперь, значится, так… Ежели испанец столкуется с красномундирными, да не дай Бог морского разбойника золотой монетой ублажит, – тогда ставь на нас, брат, крест… Не выдюжить нам… А я супротив такой силы своих друзьев, товарищев, братьев кровных бросать бы не стал… Ты тут хоть чо говори мне, Сергушка, хоть голову руби, а то, один черт, рубка зазря будет. И мыслью сей я не только с тобой делюсь, надо – и в комендантский дом пойду, а кровь в песок лить не дам. Ты сам-то возмужай умом, чай я тебе глупость мелю? У сотника нашего – бес разберет – крестов на ём боле али зарубин и шрамов, испятнанный весь, однако почему-то прислушивается ко мне и не пылит с полуслова как ты, черт бессовестный.
– Да что ты? Ужель насчет Ляксеича правда? – Худяков моргнул растерянно голубыми глазами.
– Истинный Бог! – хорунжий окладисто перекрестился и, растягивая губы в улыбке, едуче воткнул: – Это ж только ты, пакость, копаешься в моих словах, как жук в навозе. Всё в герои рвёсся, в рот тебе дышло. Но, но! Не кипятись, Сергей Иваныч, умей слухать, умей! Как товарища помоями обливать – так тебе кадки не хватат, а как…
– Ух, до чего же ты сволочной и мелочный стал, Щербак! И голос-то у тебя мерзкий, будто лаптями по тине хлюпаешь… Вот не был бы ты мне старым товарищем, ей-Богу, голову бы срубил.
– А ты меня не сволочи, брат, я за свою жисть уморился и без тебя, а за честь отвечу, не боись…
– Ну и когда же ты вознамерился к господину Кускову идтить?
– Когда?
– Когда? – Худяков не отрывал напряженного взгляда от хитрого лица хорунжего.
– Да как-нибудь днями. Покуда время еще не приспело – что зазря беспокоить начальство.
– Ну, что же… – Сергей почесал затылок, сунул нагайку за голенище. – Может, ты в чем-то и прав, Иваныч. Поглядим. Эх, нашенским рукам тут работать надо, а не сабли вертеть… Верно говорють: хорошо там, где нас нет. Ладно, пойду я не то. Уж скоро месяц начнет таять. Щас бы ешо «ерофеича» перед сном, чтобы огонь по зебрам64 прошелся. После такой разговоры – печаль одна, тоска.
– Эх ты, водочник – сито худое, вот отсекут тебе руки испанцы, чем чарку ко рту подносить будешь? Да шутю я, шутю. Айда, есть у меня в заветном погребке перцовка, щас тяпнем. Но только завтра, гляди, сведи своего Месяца к Егору на кузню, добро? Люблю я твоего коня.
– Да что я, враг себе, что ли?..
61
Кацап – прозвище, издревле данное в Малороссии великорусским мужикам. Представляет испорченное «як цап», т. е. «как козел», – намек на бороду, которую малороссы бреют. (Прим. автора).
62
Ереститься – сердиться, задориться, лезть в драку (сибирск.). (Прим. автора).
63
Имеется в виду ад, преисподняя. (Прим. автора).
64
Зебры – в простонародье жабры.