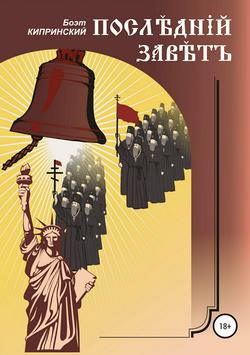Читать книгу Последний завет - Боэт Кипринский - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Глава вторая. Гласность
ОглавлениеОна тоже почти всегда воспринимается как понятие со странной и нелегко разбираемой статью в приложении к публичному праву.
Уловить разницу между нею и свободой слова стоит напряжения, – так они, кажется, близки друг другу.
Скажут: «гласность», и могут подразумевать или уже считать её за свободу слова. Равно как и наоборот. Смотря по тому, каков характер «применения». Их, бывает, пакуют и в один мешок, а то и перемешивая одну в другой, полагая, видимо, что тут можно и не церемониться и обойтись упрощением, наподобие следующего: позволяется всегда открыто употреблять слова и выражения без оглядки на их восприятие другими.
Желание упаковать вместе и ту и другую заметно, в частности, в названии общественного российского фонда защиты гласности: у него запрограммированные полномочия – звонить во все колокола при ограничениях свободы слова. – Того, однако, ещё мало: можно ли всерьёз вести разговор о защите как направленном действии, если её воплощаемость не выглядит отчётливо, – не ясна? Ведь, как увидим далее, у гласности вовсе нет никакой предметности. Её защита в таком случае «держится» только на голом политизированном или номинальном смысле. – …Но – всё по порядку.
Эпоха перестройки или назревшего обновления жизненных целей была эпохой одобряемого обществом притворнополитического популизма, прочно увязанного с опорой на целесообразное, «первичное» «правовое» основание в виде широчайшей гласности. По-другому целевые задачи поднимались правозащитниками, узниками совести, – в их среде было тогда в употреблении по преимуществу словосочетание «свобода слова»; но там подразумевали и ту же гласность. А когда возникло новое демократическое движение, то повсюду уже и не стремились быть щепетильными: шло бы на пользу делу. Однако сколько пользы ни прибывало, а при сочинении закона о СМИ РФ о ней, видимо, не хотели помнить. Как и свобода слова, она вовсе не приведена в его тексте. Хотя сознание воспринимает её этакой глыбищей, завоеванием, как теперь не упускают случая подчёркивать, социально значимым, да ещё притом – годным к услужению реальностям, к действию.
Нельзя отрицать – она и действует. И не обойтись без неё, тем более – теперь, когда в открытости (или – в опрозраченности) мы жаждем догнать «свободный», а то и весь «цивилизованный» мир. Будто бы точное повторение судьбы свободы слова. Как легко заметить, она тоже устремлена к воле – на простор естественного права.
Но в самом ли деле всё то, с чем на практике бывает связано понятие гласности, является её фактическим содержанием? В какой мере тут предполагается правовое и есть ли оно?
Вопросы «подсказаны» противоречивым, исходящим из привычного: так же, как и свободу слова, гласность постоянно «берут» и «используют» вроде как штуку, данную в юриспруденции, с намерением придать ей прикладной характер. Для козыряния демократизмом. Или в запалах заурядного философствования. Или чего-то ради ещё. А между тем родовое имя этой дамы поостереглись упомянуть не одни только разработчики закона о СМИ; оно не приводится и в конституции РФ.18
То есть это означает уже нечто принципиальное, а именно – непризнание за нею статуса свободы. Вот уж чего бы нельзя подумать! Только куда деваться от факта: ни названия, ни гарантии для такой разновидности свободы наш основной закон не даёт. Каким-то корявым и далёким от обыденности воспринималось бы выражение «свобода гласности», в то время как «гласность» это ведь уже законченное, совершённое действие (свободой оно предусматривалось бы одновременно и как возможное несовершённое) в информировании, конкретно – в информировании «на слух», то есть – голосом. (В связи с этим теперь вообще нелепо ставить такие частные вопросы, как, например, о развитии, опеке, той же защите и проч., поскольку «событие» уже состоялось…). – Но почему тут определённо исключена свобода? – Ситуация, чем-то сходная с нарисованной Гоголем. Припомним: деду Максиму никак не вытанцовывалось на середине гладкого места возле грядки с огурцами. Нет – и всё. Только ноги стали как деревянные. Дед было пытался ворчаньем найти справедливость – выдержать себя «свободным»; но когда, растерянный, он второпях оглянулся, оказалось, что перед ним уже другое место. «Быть завтра большому ветру», – подумал он, глядя на тучу, закрывавшую месяц. А внук его Фома, предваряя эту интригующую притчу, замечал, притом отбрасывая шутейство: «Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!»19 Словом, как считал Навои, «это означает – отказаться от посредства причин и обратиться к беспричинной первопричине».20
Впору и нам объяснять предмет подобной стародавней вычурностью. Только ведь «гласность» – понятие, существующее в обществе, – и на бытовом, и на политическом уровнях. Оно есть предмет уже не только общественных отношений, но и – цивилизованности. Кажется вещественной, значимой и любая помеха, за которой воспользование термином и заключённой в нём сутью уже не представляется достаточно полным, каким, по нашим запросам, оно бы должно быть. Что же – получается, хотя ничего здесь и не понятно, а всё же – нет и мистики? Если при таком раскладе людям удобно иметь пользу, не рассуждая, откуда она и почему, то обычно до какой-то поры обходятся и без объяснений. Это по крайней мере лучше дедовского бреда о завтрашнем ветре. Остерегаться надо, может быть, только заведомых спекуляций. Например: не вредит ли закону о СМИ чья-нибудь наивная убеждённость, будто в нём, законе, где-то у него внутри, гласность живёт и, будто находясь там, она обязана «охватывать» собою всё, что можно открытьприоткрыть народу? Иначе говоря – обоснованно ли уповают на роль закона в её бытовании, не даётся ли тем самым ложное толкование и непосредственно закону? В таком аспекте приходится рассуждать не ради одного любопытства. СМИ, как уже отмечалось, нельзя представить функционирующими без гласности. Но поскольку в правовом пространстве её не принято считать взаимоувязанной со свободой, которая должна бы проявляться непосредственно, то есть быть некоей обуславливающей «средою», в том числе – для СМИ, а имеют её в виду только в качестве «объекта», подверженного постороннему «воздействию», – то не резоннее ли и соответственно обращаться с нею? Как? Да не иначе как и с любым предметом, от которого стараемся добиваться возможно большей выгоды. Наверное следует ещё раз поразглядывать этот не имеющий предметности, но широко употребляемый термин со многих сторон. Корень обозначающего его слова – «гла». К нему восходит целый ряд схожих самостоятельных словообразований c характерным «перетеканием» в действие: «гласить» – «возглашать» («возглашение») – «оглашать» («оглашение») и т. п. Если стержнем свободы слова является только возможность, потенциальность выражения (выражения (обозначенности словом), где достаточно гарантии (или даже отсутствия гарантии) и где неприемлемы и не нужны никакие ограничители, то гласность (как уже выполненное «оглашение вслух», а ещё: «напечатание», «написание»), будучи выраженной фактически, уже вроде как и не должна бы не иметь направленности, то есть в конечном счёте – получателя или потребителя.
В таком «движении» («от» и «до») она, разумеется, уже – не вполне свободна. Однако в условиях жизни на началах гражданственности людям предоставляется право свободного получения или потребления того, что изрекается, печатается или пишется. И поскольку проблему берутся решать на уровне права, то свободное получение-потребление становится возможным лишь в пределах закона, а значит – в «зауженном», в ограниченном виде… – Бесспорно, тут видно существенное различие в природе двух якобы схожих понятий.
Гласности, оказывается, присущи признаки очень ходового «товара», хотя и сугубо специфического, между тем как свобода слова «товаром» быть не может ни при каких обстоятельствах – пока она остаётся возможностью, а не чем-то реальным, действительным.
Некто из числа индийских правителей, имя которого затерялось в дебрях древней истории, остался в памяти у поколений одним своим весьма оригинальным замечанием на этот счёт:
Каждое слово, вылетевшее из моих уст, уже не подвластно мне, – утверждал он; – а над тем, чего я не сказал, я властелин. Захочу – скажу, не захочу – и не скажу.21
Гласное и обращённое на потребителя сродни информации, с которой нам также ещё предстоит встреча. И там и тут понятия даются в их обширности и запредельных объёмах. Но если информация в её приложении к интересующим нас в данном случае СМИ делима на множество видов и подвидов (тексты, иллюстрации, фактаж и проч.) и пригодна к восприятию лишь в таких частных проявлениях, то для гласности какого-либо деления нет. Она остаётся в неизменной «природной» цельности, своеобразной не выраженной ни в чём коммуникативной «вещью в себе», как фикция действенности, что навсегда и целиком освобождает её от перспектив быть кем-нибудь практически полученной или употреблённой в правовом значении. И как раз поэтому ей и не находится места в законах.22
…Но именно своей нереализуемой, но как бы всё-таки «вещной» необъятностью она способна быть привлекательной; ибо нельзя отрицать, что это для общества всё же определённое богатство, такая выраженная в естественном праве ценность, для обережения которой надо, как водится у рачительных хозяев, постоянно тратиться – и в силах, и в средствах. Хотя по отношению к гласности такая одомашенная заботливость и является гарантией, но правового аспекта здесь нет: товар, если он – фикция, может обойтись и без неё, – поскольку, не реализуясь на потребительском уровне, он не может с чем-нибудь уравниваться по стоимости…
В таком случае – как же бы им «пользоваться»? – Вряд ли существует ясный ответ. Неудача с наименованием фонда гласности предосудительна не самим фактом, а спекулятивным подходом, когда одно с лёгкостью засчитывают за другое, схожее лишь в отсутствии конкретики и в неотчётливости, но разнящееся по существу. Спекуляций пока немало, они даже, можно сказать, преобладают. Вот ещё пример. Заместитель министра печати и информации Мордовии Столяров разрабатывал тему следующим образом:
…для нас, современников, особенно для журналистов, наступила всего лишь гласность, а не свобода слова.23
Здесь обе очаровательные дамы подразумеваются как бы «приставленными» к закону и как бы уравненными в их должном услужении на благо кому-то. Вроде бы резонно. Нельзя ни одною пренебречь как очень важными субстанциями правосознания: без них на современном этапе не могло бы «состояться» то «наличное» правовое пространство, которое мы имеем.
Но как же тогда понимать утверждение, что свобода слова ещё не наступила (будто её и нет)? Содержанием права, то есть показателем «размещения» слова в правовом пространстве, является примыкающий термин «свобода». Именно благодаря ему слово не остаётся нейтральным по отношению к пространству права, как это происходит с табуреткой, ложкой или подоконником. Да и гарантирование свободы слова в конституции, – разве такое действие не должно обязательно расцениваться как утверждение правового24?
Отрицанием «наличия» свободы слова затушёвано сожаление прагматика об её отсутствии в виде фактической выражаемости слова – в его начертании, в звуке и проч. – Тем самым из правового процесс переводится в чисто физический. Где слово может быть «полновесным», «громким», «отчётливым», «еле слышным» и т. д. Надо полагать, вовсе не в этом, уже совершенно другом смысле отрезано, будто свобода слова ещё не наступила. Но даже такой суетливой оговоркой исправить отрезанное было бы уже нельзя: свобода слова в её правовой семантике остаётся непонятой25 и «употреблённой» не по назначению.
Также надо признать слишком запутанным и сказанное чиновником о гласности. – Она, получается, есть, и на этом вроде как можно поставить точку. Но что означает – «наступила»? В каком «наряде» и где? Можно ли, ориентируясь на её «приставление» к закону, внятно говорить хоть о каком-то правовом результате, если сам предмет манипуляции ничего собою как явление публичного права не представляет, а из пределов права естественного по направлению к закону он передвинут совершенно произвольно? И почему – «особенно для журналистов»? – Кажется, тут уместно будет заметить, что ещё есть между нами отдельные заблуждения, равные полному проигрышу.
18
Ещё нередко, ссылаясь на конституцию, пытаются уравнивать гласность и открытость.
Это – грубейшая ошибка.
По основному закону (ч.1 ст.123) открытость установлена лишь для судебного процесса как такового, для процедуры разбирательства дел, сообразно чему стороны и все желающие имеют одинаковые права на присутствие в заседаниях судов, – между тем как материалы любого судебного дела могут быть «открытыми», оглашёнными, а могут и не «открываться», не оглашаться. Кроме того, уже в той же ст.123 конституции предусмотрено и закрытое слушание дел, когда это бывает необходимо и соблюдаются условия, прописанные в законе.
До какой неуклюжей интерпретации доходят иногда в толкованиях открытости, можно видеть на примере одного сообщения, распространённого агентством Интерфакс в июле 2002 г. В нём говорилось о начале судебных слушаний в Саратовском областном суде по делу активистов межрегиональной общественной организации национал-большевистской партии (НБП) во главе с писателем Лимоновым, обвиняемых в терроризме. В связи с тем, что слушания были объявлены закрытыми, и, видимо, предполагая придать этому «нормальному» факту больше «цивилизованной» значимости, агентство пишет:
Накануне заседания адвокат Лимонова… сообщил, что намерен… потребовать гласности судебного разбирательства.
Надо полагать, адвокату здесь приписано вовсе не то, что он говорил, иначе бы надо здорово усомниться в его компетентности – как профессионального и образованного юриста.
К употреблению термина «гласность» в его «очень желательном» значении склоняются и правотворцы. Такое заметно, в частности, в законе РФ № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан Российской Федерации», вступившем в силу 26 июня 2002 г. В нём выделена тема: «Гласность в деятельности комиссий» (ст.30). Но среди основных терминов и понятий, которые даны там предварительно (в ст.2), истолкования «гласности» нет. В результате нормы, относимые к теме ст.30, получили расширительный, а значит и необязательный смысл. Тут можно подразумевать и открытость, и прозрачность, и что-нибудь ещё, но, к сожалению, в любом случае для тех, кому дано выполнять закон, термин будет и не «гласностью», и не чем-то иным.
19
Николай Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «Заколдованное место». По изданию: Н. В. Г о г о л ь. Собрание сочинений в восьми томах. Москва, издательство «Правда», 1984 г.; т. 1, стр. 264-267.
20
Алишер Навои. «Возлюбленный сердец»: «Об уповании». В переводе А. Рустамова. По изданию: «Антология мысли». «Суфии: восхождение к истине (собрание притч и афоризмов)». Москва, «Эксмо-пресс», 2001 г.; стр. 391.
21
Абдуррахман Джами. «Весенний сад»: «Заветы царей». В переводе З. Хасановой. По изданию: «Антология мысли». «Суфии: восхождение к истине (собрание притч и афоризмов)». Москва, «Эксмо-пресс», 2001 г.; стр. 233.
22
Выше было показано, что если это кем-то и делается, то лишь из-за правовой безграмотности.
23
Интервью газете «Московский комсомолец» в Саранске», номер от 9 авг. 2001 г.
24
«Хотя бы» в самом факте утверждения, о чём уже говорилось в главе первой [«Свобода слова»].
25
Также не проглядывает здесь и ещё более важного смысла в этом понятии, – который может быть выявлен только путём «раскладки» («инвентаризации») входящих в него обоих слов по «контурам» (содержанию) сущего – отдельно каждого и «слитно», в их взаимодействиях и воздействиях друг на друга. – Об этом см. в главе девятой [«Массовая информация» как форма товара»] и в части II, § 3 настоящей работы.