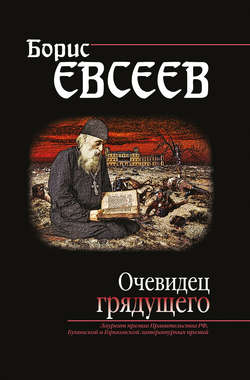Читать книгу Очевидец грядущего - Борис Евсеев - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Авель Вещий. Пролог
ОглавлениеСерой безветренной ночью, внизу у забора – слабый шум, за ним – вороватый хруп: под чьей-то неловкой стопой, с глухим треском проломился остаток ноздреватого льда. Резко вскинувшись, он сел на постели, в последние недели расстилаемой прямо здесь, в кабинете. У забора всё стихло, зато через минуту-другую, уже в сенях, на первом этаже – кашель. Чуть спустя – разговор.
Голоса были неясными, а вот глухой, с металлическим призвуком кашель, тот звучал отчётливо и, без сомнения, что-то напоминал. В одном белье, не накидывая халата, он сделал несколько шагов и легонько толкнул двустворчатую дверь. Дохнуло примороженной апрельской гнилью: Тобол давно вскрылся ото льда, но в городе, по рассказам, ещё кое-где лежал снег. Грязно-жёлтые, смёрзшиеся, продырявленные мочой островки его попадались и во дворе бывшего губернаторского особняка. Однако набегала уже из азиатских степей яро-красная теплынь, звенела в ночном воздухе птичья пустая сухость…
Не решаясь двинуться дальше, он остановился на пороге и постарался себя успокоить: это снова поварской ученик Седнёв затеял игры с охраной! Ночная тревога была не ко времени, мешала сосредоточиться на главном: до отправки в невыясненном направлении – всегдашний осведомитель Кирпичников утверждал, что в Екатеринбург, а после, возможно, и в Москву – оставалось всего два-три дня.
Внизу скрещенья и развилины голосов обозначились ясней.
– …даром я, что ль, сквозь кордоны ломил, через Тобол переправлялся?
– Даром не даром, а не пущу. Отвечай, как сюды проник? Да руки, контра, держи перед собой, чтоб я их видел!
– Через калитку и проник. Пусти чернеца, а, солдатик? Рецепт для государя имею чудодейственный.
– Глохни, леший! Был государь, да весь вышел. Говори: как мимо караула проскользнул?
– Филя ты, филя! Да за такие слова про государя я б тебя одним мизинным пальцем сколупнуть с поста мог.
– Гляди, как бы самого к стенке не поставили!
– Это почему ж я у стенки стоять должон?
– Да ты, что ли, с неба упал, дядя?
– Ага, оттудова.
– Вот доложу – р-раз тебя, и в Чека! «Шпоры» и не таких уму-разуму учили. Мигом в штаб Духонина определят.
– Шпоры – это кто?
– А ты допытлив, дядя. Шпорами мы, красноармейцы, чекашных зовём. Ох, чую, пустят тебя в расход!
– Так уж хотели в Омске. Не вышло. Ты скажи лучше: кой нынче год, знаешь?
– Год?.. Второй год революции. Иди отсель, дядя, иди. Не велено на посту болтать.
– Да я не про то. От сотворения мира год какой? Не знаешь, так я скажу: 7427! А конец мира – он в 8400 году быть назначен. Так что уж семь лет как обратный отсчёт начался. И как раз в нонешний, седьмой год последнего тысячелетия, решится: быть ли окончательному концу мира или мир к лучшему переменится! Конец мира – слышь-ка? – предвосхищён, а не предопределён ещё.
– Ты что несёшь, дядя? Вижу, болен ты. Уже второй год, как мир к лучшему переменился!
– Вижу, грамотный ты… А чего ж тогда не в штабе, чего тут торчишь?
– Грамотный-то я не шибко, а по цифрам разбираю. Шёл бы ты скорей отсель. Старшой вернётся, несдобровать тебе. А говорю с тобой, потому как жаль мне тебя! Ишь, мокрый, как хлющ. И дрожишь, будто в лихоманке. Так тут и дохтор есть.
– Раз один только дохтора меня и пользовали. Это когда я чумой, по-лекарски пестиленцией, хворал, – опять кашель, но уже со смехом, а смех – тот с ехидцей…
По этой-то ехидце, смешанной с металлическим кашлем, назвавшийся чернецом признан и был. Сразу вспомнилось: пятнадцать или шестнадцать лет назад, втайне от всех, посетил он терзавший наяву и во снах Михайловский замок. Посетил потому ещё, что в последний год почувствовал в императоре Павле нечто близкородственное, магнетическое, то, чего ни в отце, ни в матери не чувствовал. В «Дневнике» записей о предстоящем посещении не делал, сопровождавшим приказал ждать у подъёмного моста.
В час вечерний, час поздний замок прадеда был пуст. Пробыв с полчаса и уже собравшись уходить, усмехнулся: пустое! Ничего странного во дворце не происходило. Ну, хлопнула разок-другой дверь наверху, ну, отводные трубы прибулькнули, сырость-тьма петербургская белёсая сгустилась…
Тут зазвенело в ушах. Следом – резко, дурашливо – свистнула старинная флейта: флажолет. Он обернулся на звук, и внезапно в замке пригас свет. Шевельнулись шторы, и меж них возникло бело-пламенное – пирамидальным столпом – свечение. Затем раздалось стариковское кряхтенье, а чуть спустя – чахоточное покашливание. Сразу отлегло от сердца: не прадед! Не Павел Петрович! Тот до хворей стариковских не дожил. Однако ж если не Павел, кто тогда по Михайловскому замку бродит?
Вслед за покашливанием раздался негромкий, но внятный голос:
– …и года не прошло, как прочитал ты письмо императора Павла. А туда же! Нелепым надзором забавляешься. Имя моё упоминать запретил. А ить я старец, и ты меня должон со всем почтением слушать.
Тогда, в Михайловском замке, он негромко, но отчётливо произнёс:
– Такова моя воля. А значит, и воля Божия. Я от Бога России дан, а ты вот от кого? Выйди-ка из-за шторы, любезный, представься по форме.
– Авель я. Неужто позабыл нашу встречу? Из-за твоего упрямства снова встретиться нам пришлось. А ить упрямство твоё смехотворно. И не ко времени. Чуешь? Небо гудит! А шаги в треске пламени слышишь? Это неслыханное мученье к тебе крадётся. Вон оно на воздушных простынках пальцем намалёвано!
Осмотревшись и намалёванного не увидев, он сперва впал в раздражение, затем почувствовал страх, а после – растерянность. Тут электричество в замке погасло окончательно. Двигаясь впотьмах, он налетел на какую-то жардиньерку и расстроился ещё сильнее: схлынула властность, как сквозь дырочку в медном тазу стала вытекать миропомазанность. В сокрушающей тьме Михайловского замка, сбиваясь на фальцет, он слабо крикнул:
– Ты где, отче? Покажись видом…
Ответа не последовало. Снова фальшиво и резко, – как будто разучивал сложную пиэсу неопытный музыкант – засвистал флажолет. А вслед за звуком, чуть светясь, странное дуновение пронеслось по Михайловскому замку! Словно бы вылетел из стальной трубы спёртый воздух и на лету стал превращаться в кудреватый водяной пар. Шевеления усов и бород, обшлага мундиров и завязочки женских панталон, бальные платья и серебряные черепа на шапках чёрных гусар на миг обозначились в облаке водяного сияющего пара.
– Какой ошеломляющий парад, – стараясь унять волнение, произнёс он тогда вслух.
От слов этих облако взвинтилось смерчем и на трижды перекрученной, витой ноге двинулось прямо к нему. Как под водой, стало нечем дышать. Судорожно втягивая в себя воздух, кинулся он из Михайловского замка прочь. На улице вздохнул спокойней. Здесь была жизнь достоверная: короткие ясные команды, стройно играющие оркестры, военные учения, походящие на чётко расписанные – танец за танцем – балы. А вслед за учениями и сами балы, по язвительному замечанию одного из свитских генералов, точь-в-точь напоминающие военные ученья… Витая нога, впрочем, вскоре забылась, а вот покашливанье и старческое насмешничество – те вспоминались не раз.
Теперь, в Тобольске, ясно припомнилась и первая встреча со старцем.
* * *
Утром 12 марта 1901 года с императрицей, частью свиты, кинооператором и его ассистентом, в шести закрытых каретах – автомобили у Александры Фёдоровны всё ещё вызывали подозрение – следовали на станцию железной дороги. Ветер порывами носил над мостовой колкий снег. Настроение, однако, было приподнятое, даже возвышенное. Предстоял путь по железной дороге в Гатчину. Мглистое, натыканное иглышками мороза, но все равно сыроватое петербургское утро не препятствовало сентиментальным, едва ли не поэтическим мыслям: дело в Гатчине предстояло любезное сердцу, дело семейное, нужное. Но и к истории, без сомнения, отношение имеющее: ехали вскрывать оставленный императором Павлом прямому наследнику по мужской линии пакет, вот уже сто лет хранившийся в опечатанном ларце.
Тихая детская радость от предстоящей поездки по железной дороге росла, ширилась, как вдруг на одном из перекрёстков, ближе к станции, чуть не под копыта кинулся то ли монах, то ли и вовсе какой-то побродяга. Костистый, простоволосый, в просторном, с чужого плеча армяке, из-под которого виднелась некогда серая, но от времени порыжевшая ряса. Был побродяга бледен лицом, на щеках имел розовые с неровными краями пятнышки, борода каурая метёлкой растыкалась в стороны. Однако, несмотря на худобу, чувствовалось: побродяга очень силён и уверен в себе.
Александра Фёдоровна вздрогнула. Кучеру приказано было остановиться.
– Надо бы еттого нищего в работы, – нахмурилась императрица.
– Милая Аликс, «Особое присутствие по разбору и призрению нищих» правом принуждать к работе не обладает. Да и сами побродяги нищету свою больше, чем дома́ призрения, ценят.
Выйдя из кареты, он протянул побродяге ещё с вечера заготовленный полуимпериал, произнёс «на счастье» и ободряюще улыбнулся. Побродяга глянул на полуимпериал, увидел на нём отчётистый царский профиль, перевёл взгляд с монеты на оригинал, булькнул горлом, цепко, двумя пальцами, ухватил монету и, не раздумывая, зашвырнул её далёко в снег. А сам внезапно стал валиться на бок.
– Regardez-moi! Вы гляньте только! Да у него настоящий обморок, – долетел фрейлинский смешок из кареты сопровождения, в которой тоже приоткрыли дверь.
– Ах, какой ньежный этот нищий, – поддакнул фрейлине кто-то из свитских.
Полежав несколько секунд с закрытыми глазами, побродяга вдруг перевернулся на бок, высолопил, как собака, язык, два-три раза лизнул им островок уже начавшего чернеть снега, стал подниматься на ноги, как вдруг, зарыдав, упал вновь. Из окна уже готовой двинуться дальше кареты было хорошо видно: нищий всё же встал, замахал руками, потом поочерёдно притронулся пальцами к нижним векам и, мыча, попытался что-то сказать:
– А-а-ль… А-эл-ь… … – вылетело у побродяги из горла, и за этими звуками вслед полетел глухой, с металлическим отливом – словно в груди у нищего была спрятана небольшая труба – чахоточный кашель.
– Да у него грудная болезнь. Что он пытается сказать? – Императрица недовольно распрямилась.
– Похоже, скоротечная чахотка. Мне кажется, он пытается выговорить чьё-то имя. Но, возможно, у него подсечён язык. Я видел на Урале одного каторжанина, тот произносил звуки подобным же образом.
– Н-не бойся… письма, – выхаркнул из себя наконец побродяга, – ты слеп, а должон прозреть. Прозреешь – действуй… И́наче… И́наче…
Ветер разобрался сильней. Словно подхлёстываемый этим ветром, нищий с подсечённым языком стал коряво и дёргано водить рукой по воздуху. Показалось: побродяга вычерчивает буквы, даже целые слова. С немалым напряжением, тогда удалось прочесть: «…как Павелъ». Тут же нищий повернулся лицом на юг.
Ни сам побродяга, ни написание букв по воздуху тогда его не смутили. Смутил непонятный смысл, вкладываемый в начертание: «…как Павелъ». А вот императрицу нищий в порыжевшей рясе привёл в негодование.
– Dieser Bettler ist unamo#glich.Wir fahren eher. Этот нищий невозможен. Едем скорей назад, – повторила по-русски Александра Фёдоровна и плотней закуталась в расписной павловопосадский платок, для выезда из Петербурга ею на плечи уже однажды накидывавшийся. – Уж етти мне нищие! Они плохой знак. Дороги сегодня не будет.
– Но как же пакет, Аликс? Я ведь не раз тебе говорил: император Павел приказал вскрыть его ровно через сто лет после его смерти: день в день.
– Волю императора следует, конечно, исполнить. Но я уверена: нищий каторжник – дурное предзнаменование. Необходимо отложить поездку. Пусть на день, на два.
– Хорошо. Хотя прадед всегда требовал неукоснительной точности. И вряд ли здесь упрямство и своеволие.
– Я прошу тебя, Ники! Едем назад! Скорее…
– Что ж, пожалуй, – неохотно согласился он, – я тогда ещё покатаюсь в санях, а ты отдохнёшь от этой встряски. Поворачивай назад! – в сердцах крикнул он кучеру.
Громоздкий царский поезд медленно развернулся, императрица смежила веки, а император, приоткрыв дверцу кареты, ещё раз оглянулся. Нищий снова поднял руку, осеняя царский поезд троекратным крестным знамением…
До обеда катались с Воейковым в санях, но недолго: погода оставалась невразумительной. Вечером наслаждался игрою оркестра. Вдруг во время исполнения симфонии Чайковского, среди тревог и скорби, в группе духовых – бледное, с ржаво-красными пятнами, чуть удлинённое лицо побродяги. Он хотел подняться и выйти. Однако медный отблеск с лица музыканта быстро исчез, тень, принятая за растыканную в стороны бороду, – тоже. Тревожная музыка сменилась лёгким оркестровым галопом…
В Гатчине удалось побывать лишь 8 апреля.
Парк перед дворцом встретил сладкой, чуть гниловатой прелью. Матушка-императрица, как доложили, ещё почивала. Воздух полусгнившей зимы, воздух не вполне весенний, но уж, конечно, и не зимний, вызвал чувство неопределённости.
Пакет, хранившийся по распоряжению Павла Петровича в одной из опочивален в Центральном корпусе дворца, было приказано принести в парадную залу. Из свитских никто в залу допущен не был: не хотелось излишнего внимания. Матушка-государыня всё ещё была у себя.
– Что же ты медлишь, братец? Ступай, неси пакет, – обратился он к лакею, который, казалось, силился что-то выговорить, но, как видно, не смел.
– Может, ещё отложим, Ники? День сегодня не вполне подходящий.
– Милая Аликс, мы ведь почти месяц откладывали. Будь любезен, неси пакет, – обратился он уже строго к лакею.
Лакей, глубоко поклонившись, вышел. Через минуту-другую где-то на верхних этажах Гатчинского дворца, в котором Павел Петрович души не чаял, резко стукнула дверь. Вслед за стуком послышались шорох и слабенький топоток: словно бежал ребёнок. Впрочем, топоток быстро сменился осторожными шагами, за окном вмиг потемнело и закричала ворона: раз, другой, третий. Крик её был странен и дик, слышался в крике треск столетних ветвей, хруст ломаемых сучьев, ураганный далёкий рёв:
– Тр-р-ц! Тр-р-ц-ц! Трц-ц-цк!
Императрица отступила от окна на шаг, и тут же повалил медленный, крупный, вовсе не апрельский снег. Снег, впрочем, тут же кончился. Но солнце не выглянуло. Вместо него вслед за вороньим криком разнеслось – так послышалось Александре Фёдоровне – нечто схожее с тихим змеиным посвистом.
– Хорошо – рядом никого. Я, кажется, слышала змеиный свист, Ники. А перед тем… – она на миг запнулась, – детский… Боже мой, как это по-русски?.. топоток.
– Это торопятся слуги, Аликс. И воображение у тебя разыгралось: кому тут свистеть?
– Нет, нет, свист был! И шажонки – будто би детские…
Он тогда ещё раз прислушался, но ни посвиста, ни шагов не услышал. Правда, затрещал – и уже вполне явственно – синематографический аппарат. В тот день снимать во дворце он запретил, разрешил лишь в парке и на обратной дороге в Петербург. В недоумении глянул он на приоткрытые створки дверей, ведущих в парадную залу. Кинооператора с треногой видно, однако, не было. Перевёл взгляд на императрицу – та закрыла глаза, ушла в себя, треск плёнки до неё явно не долетал.
– Ваше величество, пакет.
– Вскрывай же, братец. – От нетерпения он даже привстал.
Как только лакей справился с сургучами, он ещё раз внимательно осмотрел надпись, снова уселся за крохотный столик и принялся разбирать крупный, неровный, на концах слов раздражённо взмывающий вверх, прадедов почерк…
Через две-три минуты письмо Павла Первого и несколько листков с предсказаниями монаха Авеля были отодвинуты в сторону. Мелкая колючая слеза выкатилась на одну из ресниц. Отирать слезу он не стал, крепче сжал веки…
* * *
Павел Петрович любил нахохленный, глядящий сычами сумрак.
Он шёл по пустому Гатчинскому дворцу на цыпочках, не решаясь этот сумрак спугнуть. Шёл легко, полётно, радуясь своей зрительной памяти. Из заулка в заулок, из чулана в тайную комнату. И опять – в сладко-сумеречную залу. Пакет, который он нёс в руках, жёг императору пальцы. Но все одно Павел Петрович был доволен: пусть читают. Пусть изопьют до дна тоску бесправной власти! Ему самому с такой пошатнувшейся властью – скорее всего конец. Империи – тоже. Не сразу, но империя кончится. Так не только старец Авель говорит. Так думает и он сам, самодержец всероссийский. Прадед Пётр такой колеблемой извне власти тоже боялся. Придут ласкатели солдатских жоп, рассядутся близ трона срамники, с ними в ряд – болтуны и куртизаны! Будут до той поры выкомаривать – покуда не изведут династию. Или покуда не закричат тем куртизанам с Большой Московской дороги осипшие от ярости ямщики: «А приехали! Скидовай штаны! Как сидоровых коз, драть сейчас будем!»
Слова выговаривались легко, мысли вспыхивали ярко, как перед апоплексическим ударом (о котором, впрочем, один только лекарь Виллье ему и толковал). Стало тяжко шее, легко языку. Но, может статься, вовсе не апоплексия его караулит? Скотландцу Виллье – курвецу и паскуднику – с некоторых пор доверия не было.
Впрочем, мысли в сторону. Пакет должен быть отдан на сохранение неверной, а всё ж таки супруге. Сперва казалось: нужно просто спрятать пакет понадёжней. Но нестерпимая мысль о том, что пакет обнаружат слуги, перевесила: пакет будет вручён императрице. Он и вручил. И без промедления стал возвращаться к себе в опочивальню: опять-таки кружным путём, а не через соединявшую супружеские спальни дверь. Шёл, чтобы ещё раз насладиться планом Гатчинского дворца. План этот был до изумления прост. Слева крыло и справа. Наверху – бельведер и подобающий императорскому дворцу шпиль. Комнаты, комнаты, и внизу – в последние дни сильно забавлявшее зеркало.
– Посмотрите, какое престранное зеркало. Я в нём отражён с шеей, свёрнутой набок, – сказал он одному из придворных два часа назад и попытался расправить плечи. Правду сказать, такое же зеркало имелось и в Михайловском замке. То зеркало неделю назад тоже показало: его шея крива, крива! Тут же вспорхнула мысль: отражение искривляют намеренно. Зеркала – подменили. Надобно заказать новые зеркала, и всё уладится!
Павел Петрович остановился у Арсенального каре, затем проследовал к Восточному полуциркулю, на несколько секунд исчез, а потом снова возник в представлении императора Николая: обволокнутый материей трескучего экранного полотна, с телом, пробиваемым насквозь резкими чёрточками и прозрачными искрами.
Зримая мысль вдруг повисла близ Арсенального каре! Кто мог ещё наблюдать эту шевелимую гатчинскими ветерками мысль – правящий император не знал. Однако сам он ясно видел её и слышал. Мысль была вещественной, картинной.
Облокотясь на садовую тумбу, Павел Петрович думал о маленьком правнуке. Правнук этот, в Павловом воображении, то приседал, то снова вскакивал на толстенькие ножки близ чёрно-снежной высокой клумбы. Павел пытался представить норов правнука. Зримая мысль, противясь дурным предчувствиям, топорщилась перьями птицы, силящейся взлететь против ветра: «Неужто будет, как Николаша? Как выродок гофкурьерский? Нет-нет, не пустоглаз, не чванлив будет! Вырастет честен, прям. И ежели он на троне, – как пророчит Авель, – последний из Романовых, то должен быть ещё и замечательно складен, неимоверно красив. Красота ведь и гибнет по-особому!»
Комнаты, комнаты… Следовало бы тут, в Гатчине – по совету Авеля, – и остаться. Но уже решено: вместо него останется пакет. А сам он завтра же вернётся в Петербург, в Михайловский замок, чтобы по-рыцарски сразиться с призраками пророчеств, которые так ловко сплёл монах!..
Ворона что-то кричит, время скачет вприпрыжку. Последний император будет считать ворон, будет, вздрагивая, держать пакет с сургучами, который покажется ему тяжелей витающей рядом с дворцом прадедовой ненависти к беспорядку и лжи…
Наслаждению сумеречным простором нет конца. Зала, ещё зала! И простор ведь не раздражает широбокостью: по-армейски подтянут, прилично случаю сжат. Но и раздолен, где надобно. И что самое сладкое, в сжатости и подтянутости чуется: не для матушкиных финтифлюшек свит, не для свитских чучел простор сей вылеплен!..
Тело внезапно порх – и вечность в деревьях повисла. Выше – порх: низкое небо под пятками вдавилось подушкой. Так и надобно! Ум – ввысь, негодование – в бездну, пакет – царственному потомку! Пусть узнает, как жизнь свою кончит. А самому – в Петербург: менять зеркала, очищать входные двери от заговоров, от клеветы!
* * *
Треск синематографической плёнки внезапно смолк. Государь Николай Александрович заставил себя разлепить веки. Всё, что привиделось – сразу и без колебаний было признано правдой. Сказал вполголоса, ни к кому не адресуясь: «А со мной даже худшее произойдёт», – и с нежданно нахлынувшей весёлой злостью поднялся с кресел. Александра Фёдоровна глубоко, даже протяжно вздохнула.
– Прошу тебя, Аликс, успокойся, – с твердостью в голосе сказал он супруге. – День сегодня и впрямь необычный. Очевидно, это связано со столетием кончины императора Павла. А может…
Император осёкся.
– Что, Ники, что?
Император молчал. Предсказания монаха Авеля о нём самом, о последнем императоре всероссийском, стали ясны окончательно. Мир вдруг опрокинулся вниз головой и, как непослушливое дитя, зло бултыхая задранными кверху ножками, пошёл на руках через гатчинские леса к Петербургу. Слова Авеля не просто звучали в ушах. Они расположились во внутреннем слуховом пространстве рельефно и почти сразу стали отвердевать подобно камню, из которого вытесан был Гатчинский дворец. Металлический кашель старца – словно вострубили в его лёгких узкие, болезненные полости внезапно открывшихся каверн – пропал. Вместо кашля уставился Авелев лешачий зелёный глаз.
«Что ты вытворил, Авель?.. Год указал, месяц и возможное место гибели указал. Господи, дай сил не пропасть в тех каменистых местах! И хоть есть приписка старца о том, что исправлять будущее в особых случаях можно, – нет сил понять: нужно ли такое исправление?.. А тут ещё крик вороний».
– Т-тр-р-ц!.. Тр-рёц-ц! – потихоньку передразнил император ворону и, враз ободрившись, кратко пересказал прочитанное Александре Фёдоровне.
От смятения чувств императрица сказала первое пришедшее в голову.
– Опять етта ворона! Недаром ты их не любишь…
В поднывающих интонациях императрицы ему едва ли не впервые почудилась ложь: искренняя, простительная, но ни к чему полезному не ведущая. Ещё почудилось: за портьерой, наглухо прикрывшей одно из дальних окон, кто-то есть. Словно бы прогуливаясь, откинул портьеру.
Пусто!
Императрица пришла в себя, собралась с мыслями. Малодушие Ники всегда её поражало: как можно доверять людям, ничего не смыслящим в истории! Их царствование будет славным. Дал бы только Бог здоровья, дал бы наследника. А предсказания…
Вдруг вдалеке снова послышался хриплый посвист. Теперь император его тоже услышал. Не говоря ни слова, Александра Фёдоровна двинулась к выходу. Небо за окнами вдруг разломилось надвое, вместо снега хлынул тяжёлый мёртвый дождь, быстро превратившийся в первый весенний ливень: холодный и неприятный.
Лакей, отворивший дверь выходящей Александре Фёдоровне, створки не закрывал, ждал императора. Тот подхватил с резного столика пакет, двинулся вслед за супругой, но вдруг приостановился и, удивляя самого себя, произнёс: «Мёртвая вода… Эта вода тоже мертва! И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку…»
– Ты что-то сказал, Ники? – Александра Фёдоровна, устыдясь поспешного своего ухода, вернулась и, как маленького, бережно погладила супруга по плечу…
* * *
Теперь в Тобольске, у приоткрытых дверных створок, он почувствовал всю едкость и помрачающую грусть воспоминаний. Они враз забили нос портьерной пылью, схожей с той, что раздражала прадеда Павла, прятавшегося от убийц за шторой в Михайловском замке. Павла Петровича здесь в Тобольске, однако, не было. Зато услышался смех поварёнка Лёньки Седнёва, а потом бухнул бас пожилого стрелка, подоспевшего на помощь молодому: «Где мандат? Документ, говорю, покежь, старый хрен! Счас узнаем, какой-растакой ты монах!»
Издырявленный чахоткой голос откликнулся неохотно:
– Авель зовусь я.
– А по фамилии как?
– По прозвищу, што ль?
– Пусть по прозвищу.
– Авель Васильев. А в книгах ещё пишут – Авель Вещий.
– Так и доложим, Петро: нетрудовой элемент по фамилии Вещий приходил.
– А в одной книге – так и вовсе буковку в прозвище сменили.
– Какую ещё, чёрт задери, буковку?
– Важную. Совсем недавно в омском ЧК записали: Авель Вечный. Случайно у чекашных вышло – а верно! Ну а совсем верно называть меня: Авель Русский, Авель Вечный.
– Мы эти, чёрт задери… Забыл… Слышь, Петро, как командир нас кличет?
– Ентырнацыалисты.
– Во-во, они самые.
– Да ты просто пусти меня! Я мигом: туда-обратно. И вреда от мово рецепта, окромя пользы, никакого. Насчёт лечения цесаревича подскажу. Пусти, а то счастья тебе не будет!
«Авель Вечный? Это как же? Новый Агасфер? Новым Вечным Жидом теперь монах Авель стал? Тогда что ж получается? В марте 901-го не призрак, живой человек встретился?»
Тут прямо у ворот губернаторского дома заперхал неисправный мотор. Что мотор авто неисправен, он понял сразу и от неумелости большевистских механиков – впрочем, без всякой злобы – скривился.
Голоса на первом вмиг стихли. Зато на улице кто-то крикнул заполошно:
– Стой, курва! Стрелять буду!
«Господи, опять расстрельщики эти. Надо бы предупредить монаха».
– Карау-у-ул, грабют! – истошно завыла у забора какая-то баба.
Урчание автомобиля близ губернаторских ворот пресеклось, стукнула наружная дверь: скорей всего, стрелки внутренней охраны вышли переговорить с охраной внешней. Несколько минут было тихо. Он собрался было снова прилечь, но тут ещё раз грюкнула входная дверь, и завопил младший стрелок охраны:
– Ты глянь токо! Куда монах посчез? Неуж к царю двинул, а Пров Петрович?
– А вот мы щас проверим.
Тяжко взбежав по лестнице, Пров стукнул в дверь кабинета, не дождавшись ответа, вошёл.
– Был здесь хто? – спросил одышливо, сипло.
– Я один, как видите.
Охранник заглянул в углы, отдёрнул шторы, открыл окно. На улице разбирался ветер. Окно само собой захлопнулось, стрелок, уходя, обронил с насмешкой: «Простите великодушно».
– …в подпол он сиганул! А там, как бы не ход поземельный, – снова послышалось внизу, – и поварёнок, видать, с им. Вон она, крышка напольная!
– Поддевай крышку штыком! Изнутри он, гад, заперся…
Губернаторский дом вдруг чётко, с четырёх сторон, очертился звуковыми линиями, зазвенел объёмно, как металлический четырёхгранник. Отрёкшийся от престола сперва хотел подойти к окну, передумал, ступил на лестницу. Внизу, однако, уже всё стихло: автомобиль расстрельщиков, – принадлежавший ранее, как знал он, купцу Ершову – завёлся и уехал, охранники, пожилой и молодой, вернулись на пост.
– Ушлёпал, контрик.
– Так дальше речки не убежит. А – ветер! Станет переправляться, авось потонет…
* * *
Тиша Скородумов – сорокалетний, звонкий, как ясень, до смешного прямой; Тихон Ильич Скородумов – руки слабоваты, но в крупных жилках, ещё и на висках вены бьются; Тишка-плутишка – русый, синеокий, неаккуратно по-домашнему стриженный, имеющий привычку задирать вверх и вправо тонко выточенный, сильный и крепкий, но и какой-то девичий нос, с горечью отодвинул выползшие из принтера, ещё тёплые листы: пора было собираться!
– Тр-ц! Тр-рёц-ц! – передразнил он вслух воронье карканье. – Что за звуки дурацкие?
Вдруг, локотком под бок – догадка. «Ну, ясен пень: Троцк! Так ведь именовали Гатчину в двадцатые годы века двадцатого? Какой-то матрос и с ним недоросток с гранатой явились в городскую управу и с ходу переименовали Гатчину в Троцк. Император этого знать, конечно, не мог. А ворона лысая могла?.. Ну, не в крике вороньем дело. А в чём? А вот в чём. Авель Вещий, Авель Вечный, Авель Русский! – вот кого надо выдвинуть в этом историческом наброске на первый план…»
Читавший собственную рукопись внезапно увидел и ощутил весь ход событий, связанных с отрёкшимся государем, старцем Авелем, стрелка́ми охраны, поварским учеником Седнёвым и резанувшим по лицу тобольским ветром – неразъёмно, слитно. Но лишь только попытался разбить ком повествования на части, выстроить последовательно – тот рассы́пался прахом. Правда, кое-что и осталось: отступили внезапно на второй план император Николай и старец Авель, и нарисовался остро и нежно, а затем, пошатываясь, как старинный балясник, едва удерживающий равновесие на краю собственной жизни, прошёлся туда-обратно по свободной части листа и растерзанный оболганный Павел Первый! Причём нарисовался император не гостем из прошлого, а сегодняшним действующим лицом отечественной истории: в спецназовской тельняшке с краповой полосой, в путинской панаме-афганке!
Тут сочинитель беспокойно на стуле заёрзал, но потом рассмеялся.
«Как в детстве, ей-бо! Многое из прошлого тогда представало в одёжке сегодняшней. А всё потому, что в головах людских – каша. Взять, к примеру, время историческое. В обыденном сознании оно на три части разрублено. А на самом деле: прошлое – и есть будущее. Настоящее – и есть прошлое. А будущее – есть и то, и другое, и третье. Жаль, понимают это редко, только во время коротких замыканий в мозгу… Тебя вот, Тишка, кто вёл по жизни? Кто направлял тебя, дурачок? Сперва думалось, бабка, дед, брат Корнеюшка. Позже – смены генсеков, выборы президентов. Ан, нет! Дудки! Оказалось, вспышки бессознания ведут тебя, остолопа! Да ещё кто-то, навроде ангелочка из отожжённой стали, бежит перед тобой пятками вперёд, китайским фонариком путь высвечивает и одновременно сигналит: точка – тире, точка – тире, Путин – Павел, Павел – Путин. А тогда что же выходит? Будущее прячется в недрах бессознательного? И эти самые «недра» существуют вне времени и пространства? Значит, и само будущее существует вне времени и вне нашего пространства? Как же его выудить оттуда? И надо ли? Это пока не ясно. Но ты только глянь, что это бессознательное, неподвластное правительствам, кнессетам и парламентам с жизнью нашей вытворяет…»
Здесь Тиша резко себя оборвал, даже стукнул кулаком по столу, беспокойно оглянулся на комнату, где спала жена, отодвинул рукопись и, урча, как кот на сметану, накинулся на половинку листа, вынутую из картонной папки. На листе было выведено:
Господин Президент!
Альтернативное зрение и обморочные виде́ния – важнейшая часть нашей жизни. Они крайне важны не только для частных, но и для государственных дел. Будущее существует уже сейчас! Есть будущее неотменяемое. И есть будущее поправимое. Хочу предупредить Вас о Вашем личном будущем. О той его части, которая может быть Вами поправлена. Сведения эти не плод зарубежных наводок или дешёвых прогнозов. Они получены при помощи так называемого «альтернативного зрения», а также благодаря обморочным снам…
Дальше – облом. Точно описать собственный обморок и наступивший вслед за ним полусон с яркой и страшной картинкой не удавалось. Не справившись и на этот раз, Тихон Ильич с досадой уложил письмо обратно в папку с надписью «Аннотации».
Утро едва проклюнулось, за окном было темным-темно, хоть огни реклам в Замоскворечье уже вовсю и моргали. Малая часовая стрелка вплотную подобралась к цифре 5. Петербург с Михайловским замком, Гатчина с клумбами и болотами, Николай Второй и Павел Первый – стали опадать, рассыпаться. Снова булькнула электронная капля. Пришло ещё одно письмо от Корнеюшки: «Не забыл? Сегодня на станции «Технопарк», в 5.50!»
Нужно было снова окунать лицо в московскую, не слишком сладкую, но и не так чтобы совсем уж горькую темень, нужно было торопиться на встречу с братом Корнеюшкой.