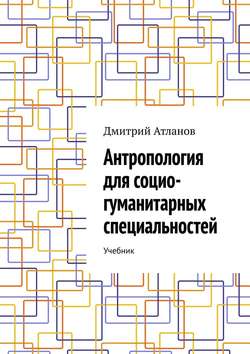Читать книгу Антропология для социо-гуманитарных специальностей. Учебник - Дмитрий Атланов, Д. Ю. Атланов - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Предметное поле, систематизация, современное состояние антропологии
Экономическая антропология
ОглавлениеЭкономическая антропология – научная дисциплина, возникшая в XX в. на стыке социологии, экономики и социальной антропологии. Экономическая антропология занимается исследованием взаимодействий людей по поводу товаров и обеспечения услуг. Предметом классической экономической антропологии являлась экономика докапиталистических стран или так называемых крестьянских обществ, где рынок, хотя и присутствует, но не определяет образ жизни. Сегодня в фокусе научного внимания экономической антропологии оказались проблемы современных обществ, поскольку народы не живут более изолированными общинами, они так или иначе интегрированы в мировой рынок и эта интеграция в значительной степени изменила их образ жизни. В экономической антропологии в качестве основного экономического ресурса рассматриваются не земля, не климатические условия, не полезные ископаемые, а люди и их культурная история. Культурное наследие страны, этнопсихология населения, традиционные стереотипы и нормы трудовой деятельности – вот главные предпосылки того, что называется экономической жизнью в понимании экономической антропологии.
Макс Вебер впервые перебросил мостик от экономики к массовой культуре, убедительно доказав, что европейский капитализм стал в значительной степени не результатом развития «производительных сил», а итогом ценностной революции в Европе, утвердившейся под знаменем протестантской ереси. Для современной экономической антропологии, зачастую уже заменяющей собой традиционную экономическую науку, «культурный фактор» становится объясняющим и для экономических взлётов послевоенной Японии, и теперешнего Китая, и Словении; этим фактором объясняется и «великая депрессия 1920-1930-х гг.», и экономический крах 1997—1998 гг. в Юго-Восточной Азии и в России. С точки зрения экономической антропологии, изобретённая в той или иной стране экономическая модель не поддаётся экспорту, несмотря на действие общих и универсальных экономических законов.
Экономическая антропология как особая область знания начала существовать тогда, когда данные об экономических отношениях примитивного общества пришли в непримиримое противоречие с претендовавшей на универсальность формальной экономической теорией. Только тогда исследователи осознали существование особых проблем, относящихся к области экономической жизни примитивных народов, и начали искать пути к их решению.
Но это произошло далеко не сразу. Длительное время область экономики не привлекала внимания этнографов. Конечно, хозяйство примитивных народов не могло совершенно остаться вне поля их зрения, но, обращаясь к нему, они исследовали, прежде всего, технологию, в меньшей степени организацию труда и почти совсем не касались собственно экономических отношений. Ещё меньше внимания уделяли экономическим отношениям путешественники, торговцы, миссионеры. Поэтому материалы, относящиеся к экономической структуре примитивного общества, носили крайне отрывочный характер.
Первые более или менее серьёзные попытки свести воедино все данные о первобытном хозяйстве были предприняты в конце XIX – начале XX вв. Но в этих работах больше говорилось о технологии и организации труда, чем об экономических отношениях. Одним из немногих исключений была книга Н. И. Зибера «Очерки первобытной экономической культуры» (1881), в которой экономическим отношениям было уделено довольно много внимания. Из числа других работ можно указать на труды Э. Дюркгейма (1893), К. Бюхера (1893, 1897, 1898), Ш. Летурно (1897), Г. Панкова (1897), Г. Кунова (1898), Н. Н. Харузина (1903), Ф. Шомло (1909), М. Мошковского, (1911), В. Гауля (1914), В. Копперса (1915—1916), М. Шмидта (1920—1921).
Как известно, ещё классическая буржуазная политэкономия объявляла капиталистические отношения естественными, вытекающими из самой природы человека. Так как буржуазные отношения обрисовывались в её теориях в значительной степени объективно, то сам этот человек вообще прямо представал как идеализированный капиталист. В качестве основных черт ему приписывались склонность к обмену, стремление к извлечению максимальной личной материальной выгоды, к прибыли, к наживе. Таким же во многом был образ «экономического человека» и в политэкономии середины XIX в.
Однако постепенно накапливались факты, свидетельствовавшие, что кроме капитализма существуют и другие формы экономики и, что стремление к прибыли, к наживе не всегда и не везде является основным стимулом поведения человека. В настоящее время мало кто из этнографов решается прямо утверждать, что примитивная экономика в своей сущности является капиталистической.
Вполне естественно, что люди первобытного общества мыслились как обладающие теми же самыми основными чертами, что и наши современники, по крайней мере, в области хозяйственной деятельности. Подобного рода обращение с фактами, относящимися к экономическим отношениям, было возможно потому, что все они носили фрагментарный, отрывочный характер.
Поворот произошёл только тогда, когда впервые в истории этнографии было собрано множество самых разнообразных фактов, относящихся к различным аспектам экономических отношений одной небольшой этнической группы, и была предпринята попытка их обобщить, свести воедино, нарисовать целостную картину экономической жизни данного народа. Этот сдвиг связан с появлением работ Б. Малиновского, в которых была детально описана и проанализирована система экономических отношений общества меланезийцев островов Тробриан.
Б. Малиновский впервые показал всю глубину отличия экономических отношений примитивного общества от экономических отношений капитализма и вообще современного общества. Собранный им материал свидетельствовал, что в первобытности существовали не просто иные формы привычных экономических отношений, а отношения, абсолютно непривычные, совершенно не укладывающиеся в рамки сложившихся представлений о том, какими должны быть экономические отношения. Экономическими в примитивном обществе оказались, в частности, такие отношения, которые в капиталистическом обществе никем не рассматриваются как таковые. А некоторые из примитивных производственных отношений не только не походили на экономические, но вообще выступали, с точки зрения европейца, как совершенно бессмысленные, нелепые, иррациональные. Как неоднократно подчёркивал сам Малиновский, понять мотивы и стимулы деятельности человека можно только путём анализа отношений, в которых он живёт19. Даже здравый смысл является продуктом определённых отношений. Иррациональное, бессмысленное, нелепое, с точки зрения европейца, понятно и естественно для человека примитивного общества.
Наглядно показав, с одной стороны, что в примитивных обществах существует сложная система экономических отношений, а с другой, что никакой теории этой экономики не существует, Малиновский поставил этнографов перед задачей дальнейших исследований в этой области и тем самым положил начало экономической антропологии как особой научной дисциплины.
В 1939 г. вышли в свет книги Р. Ферса «Примитивная полинезийская экономика» и Д. Гудфеллоу «Принципы экономической социологии», а в 1940 г.– обобщающая работа М. Херсковица «Экономическая жизнь примитивных народов» (была переиздана в 1952 г. в переработанном виде под названием «Экономическая антропология»). С переходом ко второму этапу произошли определённые изменения и в области теории экономической антропологии. До этого в ней не было разных теоретических направлений, хотя отдельные учёные и придерживались различных точек зрения по тем или иным вопросам. Теперь, как мы уже видели, одно из направлений в определённой степени оформилось.
Как реакция на появление «формалистского» направления в экономической антропологии постепенно возникло и выкристаллизовалось теоретическое течение, придерживавшееся совершенно иных взглядов на первобытную экономику. Если духовным предтечей этого направления, получившего название «субстантивистского», был Б. Малиновский, то его непосредственным основоположником – экономист и историк экономики К. Полани.
Среди докапиталистических экономик его, прежде всего, интересовали «примитивные» («племенные») и «архаичные». Под первыми он понимал экономику доклассовых и переходных к классовым обществ, под вторыми – экономику раннеклассовых, в том числе древневосточных обществ.
К. Полани настаивает на необходимости чёткого разграничения двух различных значений термина «экономика» – формального и субстантивистского. Экономика в формальном смысле существует везде, где экономят, экономизируют. Отсюда сторонники формальной экономической теории делали вывод, что существование экономики равнозначно существованию экономизирования, рационального калькулирования, а так как экономика универсальна, то отсюда необходимо следует, что такую же природу имеют экономизирование, максимизирование и т. п.
К. Полани указывает, что экономика действительно универсальна, но вовсе не в смысле наличия во всех обществах экономизирования, максимизации прибыли, а лишь в том значении, что в каждом обществе неизбежно должен иметь место процесс производства, распределения и потребления материальных благ и услуг. Экономика выступает как субстанция (отсюда термин «субстантивизм»), основа любого общества. Чтобы бесперебойно снабжать общество всеми необходимыми материальными благами, экономический процесс должен отличаться единством и стабильностью, а это может быть обеспечено лишь действием определённых общественных институтов. Экономика всегда является институциализованным процессом. «Институциализация экономического процесса, – пишет К. Полани, – наделяет этот процесс единством и стабильностью; это порождает структуру с определённой функцией в обществе». «Именно общественные институты, через посредство которых организован экономический процесс, определяют мотивы и стимулы, побуждающие человека к производству. В изучении именно институционного, а не технического аспекта кроется задача экономической антропологии.
Важнейшим автором в области экономической антропологии является и Р. Ферс. Его труды «Примитивная экономика новозеландских маори» (1929), «Примитивная полинезийская экономика» (1939) и «Малайские рыбаки: их крестьянская экономика» (1946) отличаются необычайным богатством фактического материала и тщательным анализом всех сторон экономической жизни изучаемых народов. Во всех своих работах Р. Ферс подчёркивает глубокое различие между примитивной и капиталистической экономиками. Он нередко говорит даже о резком контрасте между ними. В капиталистической системе «индивид, как правило, – указывает он, – имеет высокую степень анонимности и безликости в экономической ситуации. Даже если он не только номер в платёжной ведомости, то именно его функции как рабочей силы, владельца капитала, администратора имеют первостепенную важность. Именно эти его специфически экономические качества как таковые, а вовсе не все его социальные характеристики имеют значение. Он в принципе вполне заменим. Величина и качество вклада в экономический процесс, независимо от личного статуса или положения в обществе, – вот что определяет его роль»». И вполне естественно, что в большом диапазоне решений, относящихся к экономическому аспекту поведения, человек руководствуется выгодой для себя.
Иначе обстоит дело в примитивных и «крестьянских» обществах. В примитивных общинах индивид как экономический фактор персонализирован, а не анонимен. Он занимает определённое экономическое положение в силу определённого социального положения. Переместить его экономически означает нарушить социальный порядок. Личный характер носят все вообще экономические связи, все они определяются социальным положением и социальными отношениями людей. Труд, например, всегда даётся не просто как экономическая услуга, но прежде всего как услуга социальная. Социальные отношения диктуют условия передачи материальных благ и услуг. Как подчёркивает Р. Ферс, в примитивном и «крестьянском» обществах действует принцип: «от каждого – согласно обязательствам, вытекающим из его положения в социальной системе, каждому – по его правам в этой системе».
Соблюдение обязательств обеспечивается, прежде всего, силой общественного мнения. В такой экономике принимается за само собой разумеющееся, что большинство людей желают выполнять свои обязательства. Это ожидание базируется главным образом на факторе статуса. Если человек не выполняет своей доли работы и особенно тех задач, которые приходятся на него в силу родственных и социальных обязательств, его репутация падает. Помимо презрительных насмешек и прямого глумления, его гордость страдает от падения престижа в глазах остальных. И желание престижа в позитивном смысле может вести человека к тому, что он будет давать больше, чем требуют его обязательства. Надо отметить, что данный тип экономических отношений типичен вовсе не обязательно для стран с примитивной экономикой. Например, он очень ярко выражен в экономике современной Японии.
Именно стремление найти для экономической антропологии чёткий и ясный объект исследования побудило Р. Ферса обратить взгляд к формальной экономической теории. Он не мог не видеть, что сама природа современной экономической теории создаёт фундаментальные трудности для применения её терминологии к изучению примитивных институтов. «Антрополог, привлечённый вначале некоторыми обобщениями теоретика-экономиста, вскоре наотрез от них отказывается… Его буквально поражает прямая неприменимость к примитивному обществу многого из понятийного аппарата и терминологии экономической науки».
Р. Ферс вынужден признать, что принципов экономики, которые поистине общи или универсальны, мало. Большинство претендующих на универсальность, возникли внутри идей индустриальной, капиталистической системы.
«Тенденция экономистов, – писал Р. Ферс, – заключается в претензии на всю сферу, где имеет место выбор при распределении ресурсов, как на свою область, но на практике они ограничивают свой анализ ситуацией, где существуют цены, где все измеряется в деньгах». Соответственно все они под максимизацией понимают извлечение наибольшей возможной в данных условиях денежной выгоды.
Но в примитивном обществе деньги отсутствуют. Там неизбежно должны действовать иные стимулы. Можно, конечно, предположить, что человек в примитивном обществе руководствуется стремлением к материальной выгоде, к наибольшему возможному удовлетворению своих материальных потребностей. Но даже если это допустить, совершенно неясно, каким образом можно осуществить в данных условиях рациональный расчёт максимизации. Ведь если нет денег, то тем самым отсутствует способ выразить все возможные варианты распределения ограниченных ресурсов между альтернативными целями человека в одних и тех же количественных единицах и тем сделать их сопоставимыми, сравнимыми.
Но дело ещё более усложняется, если мы примем во внимание, что люди примитивного общества руководствуются в своей экономической деятельности отнюдь не только стремлением к прямой материальной выгоде. А на этом Р. Ферс категорически настаивает. «Иногда воображают, – пишет он, – что главным стимулом экономической деятельности людей племенного общества является непосредственное желание удовлетворить свои материальные нужды… Это является важным фактором в их жизни. Но было бы ошибочным интерпретировать их экономическую организацию как простую реакцию на их потребности в пище, одежде, жилье и т. п. Во-первых, эта реакция не индивидуальная, а социализированная, общественная. Ценность пищи, заключается для них не просто в её способности утолить голод, но и в том, что она может быть использована для выражения их обязательств по отношению к свойственникам, вождям, предкам, для проявления гостеприимства, для выставления напоказ богатства, для устройства инициации или браков сыновей… Вся экономическая система этих людей пронизана данным сложным, комплексом духовных ценностей. Из этого можно видеть, во-вторых, что многие из потребностей, на которых базируется их экономическая жизнь, носят нематериальный характер. Стремление создать себе репутацию может толкать человека к накоплению пищи, коров, каноэ, но в определённых случаях это же стремление побуждает его к отказу от накопления, заставляет его преднамеренно давать больше, чем он получает взамен, или расходовать свои ресурсы на то, чтобы женить сына или похоронить отца, или, как в случае потлача индейцев северо-западного побережья Северной Америки, разрушать наиболее ценную свою собственность с тем, чтобы стать выше соперника в глазах окружающих. Все это – экономическое поведение, ибо связано с выбором способа распоряжения богатством. Но оно не покрывается идеей, что максимизация удовлетворения материальных потребностей является экономической целью».
Таким образом, сам Р. Ферс в достаточной мере убедительно показывает, что ни формальная экономическая теория в целом, ни её наиболее общие и абстрактные положения и понятия ни в малейшей степени не помогают разобраться в примитивной экономике. «Экономическая деятельность, – читаем мы у Р. Ферса, – подчинена социальным целям. Только путём изучения этих целей можно увидеть, как особая экономическая система действует». Но формальная экономическая теория никогда даже не претендовала на исследование социальных целей.
В книге «Элементы социальной организации», появившейся десятилетия спустя после «Примитивной полинезийской экономики», Р. Ферс видит теоретическую задачу экономической антропологии не в создании новых, более универсальных экономических категорий, а в «контекстуализации» тех универсальных положений, что выработаны в экономической теории капитализма. Он говорит даже о целом «понятийном аппарате для изучения примитивного общества», в который будет абсорбирована лишь очень незначительная часть того, что содержится в формальной экономической теории. По существу Р. Ферс здесь приближается к идее о необходимости создания специальной теории первобытной экономики.
Результатом разочарования как в формалистской, так и в субстантивистской концепции первобытной экономики явилось появление своеобразной «средней» линии в экономической антропологии, сторонники которой выступили с критикой как того, так и другого теоретического направления. Однако сами они никакого позитивного решения теоретических проблем первобытной экономики не предложили. Некоторые из них видят выход из того теоретического тупика, в который зашла экономическая антропология, в своеобразном синтезе субстантивистской и формалистской концепций.
Однако все заявления о необходимости построения навой теории первобытной экономики на основе синтеза двух существующих направлений остаются только заявлениями. Никаких реальных попыток в этом направлении никто из экономических антропологов даже и не пытается предпринять. Теоретический кризис переживает не только формалистское направление в экономической антропологии, но и вся экономическая антропология в целом.
Возникновение экономической антропологии сделало не только возможным, но и настоятельно необходимым дальнейшую конкретную разработку теории экономики общества.