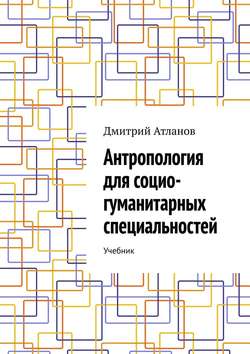Читать книгу Антропология для социо-гуманитарных специальностей. Учебник - Дмитрий Атланов, Д. Ю. Атланов - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Предметное поле, систематизация, современное состояние антропологии
Философская антропология
ОглавлениеПонятие философская антропология в современной литературе употребляется в трёх основных значениях.
Во-первых, это специальная философская дисциплина, занимающаяся проблематикой человека. Наиболее активно формируется на протяжении последней четверти ХХ века путём выделения собственного объекта философского исследования и специфики его рассмотрения (человек в философском осмыслении, учение о человеке, природа и сущность человека). То, что философская антропология стала развиваться в 20 веке, отражает основополагающую тенденцию в европейском сознании, связанную с приоритетным выделением человека в качестве центральной темы исследований. Человек становится самой насущной темой размышлений, и ценой за это выступает его предельная проблематичность. Ранее эта проблематичность тоже имела место, но она или растворялась во всеобщем размеренном строе (как в античности), или занимала свою, чётко определённую, сущностную нишу в едином порядке бытия (в христианском средневековье), или рассматривалась как неотъемлемая часть человеческого существования, которой нужно в нем отвести своё место и не более. Мысль потому и не выделяла человека в отдельную и самоценную проблему, что она определялась более фундаментальными началами. Для Канта, например, вопрос «что такое человек», предназначенный к разрешению именно антропологией, ставится по причине завершения и подытоживания сферы знания – причём сам этот вопрос не имеет самостоятельного значения, а лишь объединяет, являясь их источником, три предшествующих вопроса; таким образом, вопрос о человеке выступает как вопрос о источнике знания – метафизического, морального и религиозного. У Канта во всех вопросах акцент делается на слове «что», и если для первых трёх вопросов это вполне естественно, то вопрос «что есть человек» становится философско-антропологическим только тогда, когда акцент делается не на «что», а «есть», т.е. когда не знание, а бытие, не сущность, а существование человека становятся проблемой.
Во-вторых, под философской антропологией понимается совокупность антропологических концепций в неклассической и постнеклассической философии, возникших после «антропологического поворота», связанного с творчеством Л. Фейербаха в немецкой и Н. Г. Чернышевского в русской философии. Два означенных автора завершили процесс формирования «антропологического принципа», складывавшегося на протяжении многовековой работы философов. Антропологический принцип провозглашает человека исходным пунктом и конечной целью всякой философии. В дальнейшем он был дополнен «антропным принципом» современной космологии, устанавливающим зависимость существования человека от физических параметров Вселенной. Истоки – в концепциях космизма: Циолковский, Чижевский, Вернадский, Тейяр де Шарден. В настоящее время в этом, втором значении философская антропология вбирает в себя целый ряд концепций современной мысли: персоналистических, феноменолого-экзистенциалистических, неопрагматических, психоаналитических, неотомистских и неопротестантских, диалогистических и других, так или иначе центрированных вокруг проблематики человека.
В-третьих, в узком смысле философская антропология – течение в немецкоязычной философии ХХ века с 20-х годов оформленное как идейное и методологическое единство и связанное с творчеством М. Шелера, А. Гелена, Э. Ротхакера, М. Швельски, М. Ландмана, Э Кассирера и др. Кратко их идеи можно сформулировать в тезисах:
Человек есть сложное динамическое явление – образующие целостного человека физические и психологические процессы структурно тождественны, несводимы к механике, носят направленный характер. (М. Шелер).
Человек способен к изменению собственного бытия; понятие «человек» предстаёт как иерархически организованная последовательность определений. (Х. Плеснер).
Человек находится в диалогических отношениях с природой, целостен, системен; определение человека должно представать как «тотальное понимание системы». (А. Гелен).
Человек обусловлен не только биологически, но и им же создаваемым миром культуры. (Э. Ротхакер, Э. Кассирер).
Философская антропология была влиятельнейшим течением в XX веке, и её значение отразилось даже на тех, кто с ней был не согласен. Но проект философской антропологии до сих пор не завершён. Если дело обстоит так, то значит, актуальность философской антропологии не утрачена для современной мысли.
Уже многозначность определения философской антропологии показывает, что данная дисциплина находится в стадии активного развития и трансформации. Связано это с неопределённостью самого базового понятия «человек», которое является ключевым для всех более частных научных дисциплин и антропологии в целом. Именно поиск полного понятия человека и является предметом и индикатором состояния философской антропологии. Именно вокруг определения самого понятия «человек» идут наиболее бурные дискуссии последнего времени.
«Пора объяснить, что наше настойчивое внимание к понятию человека-в-целом, к судьбе этого понятия, порождено совсем не академическим пристрастием к полноте, к учёту всех малейших деталей. … Дело совсем в другом. Модель, которая не имеет полного образа своего предмета, не знает его полных очертаний, контуров, является эвристически ущербной, и эта ущербность весьма значима практически…
Когда модель отказывает, требует ревизии или полной замены, только полный образ предмета, то есть понятие человека-в-целом, может дать наводящие указания для поиска новой модели, стать ориентиром в этих поисках. В противном случае, если такого образа нет, человек не знает, чего он может и чего не может от себя ждать, на что способен и на что не способен; и он оказывается в дезориентации, в беззащитности от неведомого себе – себя. Антропологическая ситуация сегодня являет как раз этот случай»4.
Попытки разрешить кризис в философской антропологии предпринимаются и на путях анализа ситуации «изнутри», с предложениями по более тщательному или глубокому анализу отдельных аспектов человека или разработке темы природы или сущности человека, в различных её вариантах, например в такой постановке: «Все яснее становится глубина антропологического кризиса, связанного с потерей идеи человека как высшей ценности с одной стороны. С другой стороны – острее осознается необходимость поисков новых путей развития антропологического знания.
Вместе с тем звучат предложения подвергнуть критическому разбору саму философскую антропологию как научную дисциплину или направление философской мысли: «Философская антропология может быть понята как невозможность для мысли помыслить саму себя. А поскольку никто не хочет в этом признаться, постольку философскую антропологию выдают за знание того, как представлен человек в различных философских рассуждениях. <…..> Философскую антропологию нельзя представлять как обобщение некоей антропологии. Ибо это глупо. Ведь антропология – наука. И обобщать её можно средствами науки. А если философская антропология – это наука, то у неё должны быть предмет, метод, язык и прочее. Философия – это софия. У неё одна природа. Антропология – это логос. У неё другая природа. Философская антропология является продуктом сопряжения разных природ. Это некий кентавр. Полуфилософия. Полунаука. То, что своей неполнотой, своим «полу» может ввести в заблуждение.
Итак, само понимание феномена философской антропологии зависит от ответа на вопрос: является ли философия наукой или нет?»5
Таким образом, вопрос определения статуса философской антропологии изначально предстаёт как неоднозначный и заставляет заново рассматривать самые основания философствования. Поскольку иные, не европейские, способы философствования, такой проблемы не имеют, то очевидно, что данная проблема сопряжена с определённым методом, аксиоматическим набором, категориальным аппаратом, которые обусловили и принципиальную метафизичность европейской философии и принципиальную исключенность человека из-под вопроса. Очевидно, что возможность нового антропологического синтеза вряд ли осуществится без рассмотрения самих оснований философии. «Философия изначально трактовалась как забота человека о самом себе, о своём культурном развитии. Родоначальниками такого подхода были древние греки, которые понимали философию как «органон» – совокупность средств и практик заботы о себе. Фуко называл такие средства и практики «техниками себя». Он выделял три базовые практики такой заботы – «диететика» (забота о доме, своём быте), «экономика» – (забота о материальной жизни и материальном окружении), «эротика» – (забота о другом человеке, любовь к другому). В этом смысле необходимо говорить о восстановлении задач «первой философии», утраченных после Аристотеля, про которые философия периодически вспоминает в эпохи кризисов, то есть в ситуации «постмодерна», зарождения нового проекта человека. В классической философской традиции важным было мышление о бытии. Философия шла от идеи субстанции, но тем самым философия постепенно стала безличной, бесчеловечной.
В неклассической парадигме философ идёт от личности, от автора акта философствования. Это возможно при фиксации новой ситуации, ситуации «после». В этой ситуации нет единого мира и нет единственного мира, есть мир миров. Нет готового мира, а есть постоянное творение миров, пульсация миров. Философ творит свой мир концептов и в нем живёт»6.
Различные авторы различным образом оценивают как возможность нахождения общего взгляда на человека, так и саму возможность развития философской антропологии. Эти оценки колеблются от полностью пессимистических, до столь же полностью оптимистических. Есть и радикальные позиции, например М. К. Мамардашвили считал, что самостоятельной проблемы человека в философии не существует.7 Той же точки зрения придерживался и В. В. Бибихин.8 Более современные авторы предлагают изменить саму постановку проблемы: «Классический век философии окончен и ожидается постчеловеческий проект, в котором делается упор на тематике личности, персоны, технологии личностного роста, и самоопределения. Настало время говорить о постчеловеческой персонологии».9
«Происходит смена природы человека, точнее природ у человека. Человек выходит за пределы своей биосоматики. Отсюда следует необходимость некоей новой системы знания – гуманологии, которая в отличие об антропологии объемлет разные виды и способы человеческого бытия. Течение трансгуманизма или posthuman studies в англоязычной литературе. Гуманология – есть новый синтез теории и практики трансформации человеческой природы в процессе создания человеком искусственных форм собственной жизни и разума. Нужна новая идея человека»10. Здесь же и попытки предложить рассмотрение проблемы человека с позиции современных подходов, сложившихся, прежде всего, в естественных науках, возвести понятие человека к иным основаниям: «Изучение жизнедеятельности человеческих существ по относительно новым параметрам «энергия и «информация» требует развития нового научного направления «эниологическая антропология»».11
Пример пессимистической оценки перспектив философской антропологии: «Человек не умер. Закончилось господство одного из проектов человека, долгое время признаваемого главным и единственным, проекта человека рационального, человека Просвещения. На повестке дня диалог проектов человека. С этой точки зрения не следует говорить об одной природе человека. Нет смысла искать одну его сущность. За признанием идеи мира следует признание миров человеческих. Природа человека многообразна. Нет одной идеи человека. Есть разные проекты человека.
Эти природы и проекты не заданы, а конструируются через культурные практики.
Нет смысла заявлять об универсальной науке или учении о философской антропологии. У философской антропологии вообще нет самостоятельного предмета – она представляет некий набор онтологических идей и принципов. Искать новые основания для некоторой абстрактной философской антропологии – вчерашний день.
Антропология дробится на различные направления…
Остаётся актуальным не построение некой универсальной науки, а прояснение самой онтологической идеи человека, самой антропологической проекции человека на мир.
Для теолога мир рассматривается на фоне идеи Бога, так и для антрополога весь мир раскрывается в контексте идеи человека»12.
Более оптимистические прогнозы опираются на реально наблюдаемый процесс слияния и объединения наук, идущий параллельно с дроблением и конкретизацией наук о природе и человеке, поиск возможности интеграции знания: «Интегральная антропология – призвана преодолеть искусственный разрыв, образовавшийся между философской антропологией и научной антропологией, физической и культурной, между антропологией и другими науками о человеке. Интегральная антропология – изучает сущность родового бытия человека, включает в себя персоналистическую антропологию (учение о личности как социокультурной определённости человека), антропологию свободы (учение о свободе как способе автономного существования человека в мире антропологического творчества, учение о творчестве, антропологии гражданственности и духовного развития и т.д.).
Отдельных наук о человеке не счесть, однако у всех этих антропологий нет какого-то объединяющего их структурного инварианта, а значит, мы едва ли можем рассчитывать на то, что удастся раскрыть или установить какой-то простой принцип, описывающий их отношения и, следовательно, возможность установления их единства.
Чтобы правильно сформулировать представление о человеческой природе, необходимо объединить естественнонаучные, социальные и гуманитарные познания»13. Правда, это пока более декларативное заявление, нежели практическое, реальное воплощение. К тому же сегодня проект интегральной антропологии представляется простой суммой подходов разных наук, хотя автор цитаты правильно фиксирует главную методическую трудность осуществления этого проекта: «нет объединяющего структурного инварианта».
Оптимистичнее звучит оценка, базирующаяся на процессе поиска и становления новых общеметодологических подходов, единых как для гуманитарных, так и для естественнонаучных дисциплин, высказанная В. С. Борзенковым в ходе дискуссии, организованной журналом «Человек» и посвящённой историческому развития взглядов на человека и возможность построения общей науки о человеке: «Современная картина мира – реальная предпосылка для единой науки о человеке»14. И тот же автор: «Раскол знания на естественнонаучное и социально-гуманитарное в настоящее время может быть преодолён. Прежде всего, в результате развития естественных наук произошла деструкция означенной оппозиции и возникла возможность единой науки»15.
В дискуссии, проведённой журналом «Человек» в 2003 году, звучали и другие конструктивные оценки возможности создания единой антропологии: «Мануильский М. А.: Одним из исследований обнаружено около 200 научных дисциплин, так или иначе занимающихся человеком. Какую роль в этом континууме должно играть человекознание (человековедение)? Ответ на этот вопрос требует решения ряда фундаментальных проблем методологии и философии науки. … Безусловно, важнейшую роль в их решении играет представление о том, что такое человек, как предмет исследования. Бессмысленно обсуждать возможность создания науки, предмет которой не определён. …Исчерпывающе описывают проблемное поле изучения человека четыре понятия. Первое – человек как родовое существо, как вид Homo sapiens. Второе – человек как индивид, субъект общественных отношений, социальных процессов и т. д. Третье – человек как личность, индивидуум, обладающий неким набором интеллектуально-эмоциональных способностей. Наконец, человек как неповторимая индивидуальность».16
Как предельное обобщение происходящего в философской антропологии американский философ Абрахам Каплан иронично заметил: «Человек может быть определён как существо, не поддающееся определению».17
А отечественный исследователь А. А. Баталов предложил: «Кажется, пора отказаться от дискуссий на тему «конечного счёта». Следует исходить из того, что человек бесконечномерен. Тогда проблема будет звучать иначе – «А как реализуется эта бесконечномерность?». Думается, такая постановка проблемы позволит привести в какое-то единство многообразие человеческих свойств.
Видимо стоит прекратить бесплодные методологические споры и сочинение очередных «антропологических универсалий» и ориентироваться исключительно на характер проблемы, с которой работает исследователь, то есть, каким именно параметром он интересуется».18
И завершить этот обзор можно таким итогом: «Философская антропология, знамя которой, в начале её пути, поднял такой яркий и глубокий мыслитель как Макс Шелер, – давала импульс развития практически всем областям философии, забывая о принципиальном обосновании своего собственного статуса. И постепенно сама эта философия оживленная и даже преображённая „антропологическим взрывом“, стала все более и более снисходительно относиться к возможности признания основополагающего значения философской антропологии, используя впрочем, её авторитет как своего рода привлекательную маску. …Все это не могло не сказаться и на понимании философией самого человека. Если человек стал игрушкой, которую можно повернуть в какую угодно сторону, в руках многочисленных пишущих о нем мыслителей; если фундаментальные основания проблемы человека в современной философии растаскиваются на анализ частных аспектов, не получив своего целостного раскрытия и развития; если наконец, тезис о „смерти человека“ в философском контексте предстаёт более перспективным, плодотворным и соответствующим духу окружающего мира, нежели исследования по „положению человека в Космосе“, то значит философская антропология не смогла осуществить заложенные в ней возможности, значит проблема человека, несмотря на свою распространённость и популярность в исследованиях мыслителей, ещё не получила своего фундаментально философского осмысления, значит открытие и рождение человека для философии ещё только предстоит и именно с ним будет связан новый прорыв философской мысли»19.
Наличие сегодня столь полярных оценок философской антропологии, которые обнаружились в ходе рассмотрения литературы, можно подытожить словами Гёте: «Если на какой либо предмет обнаруживаются два взаимоисключающих взгляда, то это не значит, что истина лежит между ними. Между ними лежит проблема»20. Таким образом, в качестве ведущей проблемы современной антропологии вообще и философской антропологии в частности, выдвигается неопределённость предмета самой этой науки. И, соответственно, неопределённость самой философской антропологии.
На пересечениях методов собственно философской антропологии с методами других естественнонаучных и гуманитарных подходов стали формироваться так называемые частные антропологии. Это условное название, скорее речь идёт об антропологизации социологии, психологии, истории и педагогики.
4
Хоружий С. С. Неотменимый антропоконтур. 2 Кантовы антропотопики. // Вопросы философии, 2005, №2, с.100
5
Гиренок Ф. И. Антропологические конфигурации философии. //Философия науки. – Вып. 8: Синергетика человекомерной реальности. – М., 2002, с.375—376
6
Смирнов С. А. Современная антропология // Человек, 2003, №5, с84
7
Мамардашвили М. К. Проблема человека в философии // О человеческом в человеке. – М., Политиздат 1991.
8
Бибихин В. В. Новый ренессанс. – М.: Наука. Прогресс-Традиция, 1998
9
Тульчинский Г. А. Постчеловеческая персонология. Новые перспективы свободы и рациональности. – СПб.: Алетейа 2002
10
Эпштейн М. А. Гуманология. Очертания новой дисциплины.// Науки о человеке, Альманах. Вып 21. – СПб.: 2002
11
Баталов А. А. К философскому обоснованию эниологической антропологии // Проблемы и гипотезы. Вып.4.– Екатеринбург, УГМА, 2002, с.7 -14
12
Смирнов С. А. Современная антропология // Человек, 2004, №2., с 84
13
Резник Ю. М. Интегральная антропология как форма междисциплинарного синтеза наук о человеке. //Личность. Культура. Общество. 2002, т4 вып 3—4.
14
Материалы круглого стола «Как возможна единая наука о человеке?» //Человек, 2003, №6 – 2004,№1
15
Цит. по Шульман О. И. IV Фроловские чтения. //Человек, 2005, №1, с 191
16
Материалы круглого стола «Как возможна единая наука о человеке?». //Человек, 2004,№1, с53
17
Цит. по Гэрбер В. Эксцентрические представления о том, что значит быть человеком.//Материалы XIX Всемирного философского конгресса. ч.3 Философия и человек – М., 1993, с. 252
18
Баталов А. А. Человек как бесконечномерный «субъект-объект» // Человек, 2006, №6 с. 121—126
19
Дорофеев Д. Ю. Современные философско-антропологические и мистико-антропологические модели. // Антропологический синтез: религия, философия, образование. – СПб.: Изд-во РХГИ, 2001, с. 97.
20
И.-В. Гете Максимы и размышления. // Избранные философские произведения. – М.: Наука,1964, с348