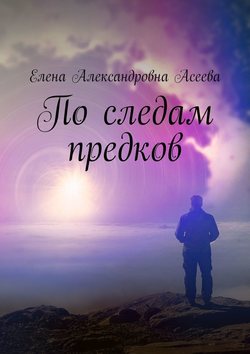Читать книгу По следам предков - Елена Александровна Асеева - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1969 год. СССР. Свердловская область
Митя Ноженко
ОглавлениеМитя был выходцем из простой семьи, которую с уверенностью можно было назвать рабоче-крестьянской. Так как его отец и мать еще до Великой Октябрьской Революции переехали из деревни в Москву, где поменяли статус крестьян на рабочих, где встретили гражданскую войну, успели схоронить трех дочек и, наконец, обзавестись сыном. Анисим Петрович, как звали отца Дмитрия, долгое время работал на предприятиях по прокладке трамвайных путей, а после перешел работать в Московский метрополитен, в бригаду по ремонту путей.
Мите, безусловно, повезло, что оно родился и вырос в СССР, стране, которая умела растить и сберегать таланты. Ведь неизвестно как сложилась судьба мальчика, если бы не социалистический строй который гарантировал советскому человеку право на труд, отдых, бесплатное образование, медицинское обслуживание и многое другое. Смог ли в иной другой капиталистической стране выучиться Ноженко, имея за спиной всего лишь мизерную рабочую зарплату своего отца…
А ведь Дмитрий с детства был одаренным мальчиком. Геометрия, физика, химия давались Ноженко с легкостью, он интересовался техникой так, что выбор его стал однозначен, поступать на физический факультет МГУ. Однако жизнь распорядилась по-другому.
Точнее не жизнь, а война.
Когда по радио прозвучал голос народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова сообщивший, что «22 июня 1941 года без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска, напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города», Митя закончил десятый класс. Будучи шестнадцатилетним юношей, он все-таки успел поступить в МГУ, но когда началась эвакуация университета в Ашхабад, Ноженко остался в своем родном городе. Еще, наверное, потому как в одной из бомбежек Московского метрополитена, погиб его отец, осиротив не только своего единственного сына, супругу, но и двух младших дочерей.
После смерти Анисима Петровича, Дмитрий моментально повзрослел, потому пошел работать на завод «Фрезер». Опять же в составе студенческих бригад обезвреживал зажигательные бомбы, работал на строительстве оборонительных сооружений. Митя и после возобновления учебы в университете в феврале 1942 года (прерванном на время обороны Москвы) все свои шаги направлял на то, чтобы как можно скорее попасть на фронт и отомстить за гибель отца. Однако сперва по юности, потом болезни оказался призван в действующую армию лишь в 1943 году.
Попав как говорится «из огня да в полымя»…
Тогда Ноженко оказался в районе Старая Русса Новгородской области, участвуя в наступательной операции советских войск. Позднее старорусскую наступательную операцию будут считать неудачной, так как взятие нескольких сел и деревень обошлось войскам большими жертвами.
Весна в тот год началась рано, вскрыв лед на реках, болотах, превратив землю в студенистую жижу, по которой не то, чтобы бежать, было сложно идти. Пересеченную небольшими оврагами, низкими вытянутыми возвышенностями, мощными и тут уже глубокими воронками, равнинную местность местами все еще покрывали невысокие деревья, такие же изможденные, с кривыми обожженными стволами, без веток, листвы окутанные серо-пепельным дымом. Сизо-черные небеса сыпали с себя бесконечные дождевые капли, которые летели либо отдельными частичками, либо шли плотными потоками наполняя и без того болотистую землю водой. И если раньше она была покрыта толстыми и длинными, точно ковровые дорожки, торфяными мхами, зелеными, да бурыми то в тот год смотрелась лишь клочками некогда былого болотного роскошества. Изорванного, исковерканного многочисленными выемками от выстрелов и бомбежек. Снаряды, кажется, достигали самого дна некогда заболоченных озер, оконцев и даже лужиц, иссушая воду, раздирая саму землю, стволы, ветки и некогда утонувшие корневища. Кое-где все еще имеющиеся подушки сфагновых мхов, буро-серых, чуть видимо курились, и поднимающийся, да опять же стелющийся над ними сизый дым, наполнял местность сладковато-кислым духом слегка приглушающим кровавый привкус на губах и запах в носу.
Из того первого и особенного памятного для Ноженко боя он вынес сильнейшую боль от числа погибших товарищей, бесконечного топтания на месте, где каждый метр давался многочасовыми гудением земли, небес, визгом летящих снарядов, ярко-красным огнем пулеметов, истошными воплями раненных. Юноша помнил, как прижимаясь к стылой, сырой земле грудью и лицом тягостно стонал вместе с ней, ощущая ее страдания и плач по погибшим сыновьям. С еще большей четкостью, словно врезавшейся в память на оставшиеся года, Ноженко помнил старшину Николая Харитоновича оберегающего его во время того первого боя, заслоняющего собственной спиной от летящих пуль на правах старшего товарища…
Дмитрий вышел из того первого боя невредимым, однако все последующие годы, не только военные, но и уже мирные с особой четкостью чувствовал гибель товарищей и боль своей родной земли, будто отпечатавшейся в его груди тягостной, ноющей болью сердца, не столько физической, сколько душевной.
Юноша в действующей армии пробыл не долго, еще и потому как его со страстью увлекла авиация и использование в ней ракетных двигателей. О многочисленных набросках и чертежах Ноженко, которые он вел в перерывах между боев, стало известно главному конструктору одной из групп по разработке реактивных установок, и, Митя был отозван с фронта и направлен на обучение в Казанский авиационный институт. А полгода спустя, все еще продолжая обучение на кафедре авиадвигателей, стал работать в конструкторской группе по разработке опытного истребителя-перехватчика. Таким образом, Советская власть не только сохранила жизнь выходцу из рабоче-крестьянской среды, Дмитрию Анисимовичу Ноженко, но и смогла направить весь его талант в правильном русле, двигающем и саму страну Советов к непоколебимой Победе над фашистской нечистью!