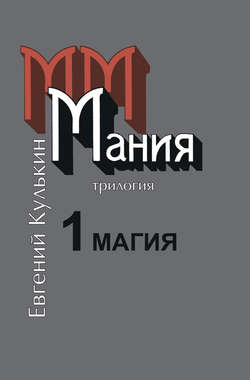Читать книгу Мания. 1. Магия, или Казенный сон - Евгений Кулькин - Страница 10
Глава третья
1
ОглавлениеЛуна исправно заведовала бледностью и потому не потерпела ни одного румяного лица. Оттого все они как бы стали похожи одно на другое. Обморочно засыпал лес. А вот камыши долго примеривались ко сну, то верховым, то низовым шелестом приноравливаясь к тихому перешлепу воды, обтекавшей тут два почти усосанных в дно валуна. Кто-то живой, но неопознанный, не очень решительно поваживался в кроне ивы-плакучки, купающей свои обсмыканные от листвы ветви в подплывшей к комлю воде.
Георгий вспомнил про цветок, какой зачем-то привез сюда, на частную дачу, чтобы с ним понянчиться те несколько часов, которые отрядил себе на отдых. Вернее, на забывчивость того, что произошло накануне. Он целый день перемещал этот цветок по комнате, уверенный, что первый же впрямую ударенный в него луч солнца сожжет эту нежность.
Произошло же то, что Прялин, ежели сказать честно, все же ожидал. Вернее сказать, предвидел. Потому весть, что Деденев выстрелил себе в ухо, не оглушила. Даже не ошеломила. Она просто налила его болью. И эта боль грубо теснила душу.
И уже через полчаса к нему приехал друг Климента Варфоломеевича Абайдулин Артем Титович.
В прошлой жизни он был крупным изобретателем чего-то, о чем не любил ни распространяться, ни даже упоминать. Сроду – а Георгий видел его раз десять – не вступал ни в какой спор или в сколько-то острую беседу. И взгляд при этом у него был хотя и прозрачен, но тускловат – как ни верти, а семьдесят – не пятьдесят.
А может, в то самое время, когда молчал, Абайдулин был не прочь погрезить чем-то несбыточным, а может, и несбывшимся.
Один раз они вместе с Деденевым ездили на охоту. И, как и ожидалось, ничего не убив, завернули в деревню, где жила сестра Абайдулина. И она, кинувшись на шею брату, потом сердобольно нежила его, оёжинивая суровые седые волосы своей теплой шершавой ладонью.
Георгий, помнится, тогда вознамерился переночевать на сеновале, вспомнить, так сказать, детство или что-то еще более дальнее, до его рождения происходившее, но все равно – генетически, видимо – помненное.
Он вышел во двор и вдруг заметил, что и тут росли такие же гуттаперчевые болотные травы, по которым они проскитались весь день, И рядом, за зарослями, кажется, бузины, жил какой-то квох. Был он и знаком и незнаком одновременно.
Тогда он решил глянуть на то, что простиралось за двором. И увидел неровно обмотыженные, похожие на скобой обстриженный бок овцы полянки, которые своей унылостью не привлекали ни грачей, ни тем паче скворцов. Только вороны, деловито турсуча мусор, что-то выклевывали в нем и гортанно перекаркивались с теми ленивцами, которые – с деревьев – спрашивали, стоит ли им спланировать на это скудное пиршество.
У сестры Абайдулина в летней кухне жил какой-то пришляк. Был он, как она сказала, чем-то до отупения болен и ни к столу, ни к беседе не примыкал. Когда же, видимо, ему легчало, он медленно не оживал, как другие, а тут же начинал суетиться, искать себе новое или продолжать прерванное дело, А ушел Георгий от стариков оттого, что дивно тупел от их умных, только друг к другу обращенных речей.
И вот, выйдя за ворота, Георгий незаметно добрел до клуба, где взрыдывала безголосая, мятая то ли барабаном, то ли еще чем-то грубым музыка.
И там неожиданно встретил знакомую. Она приехала сюда, в деревню, на выходные и вот от нечего делать забрела на огонек.
А по углам клуба сидели местные красотки и то и дело поглядывали на него, давая понять, что в Тулу со своим самоваром не ездят.
Знакомая была из тех, кто в любой части своей жизни пытается отыскать что-то если не восторженное, то уж наверняка особенное. И сейчас в ней жил пугливый мотив перемен. Замужество, в которое она угодила совсем неожиданно, и в чем все видели почти пресную обыденность, ей казалось чем-то хрупко-зыбким, призрачным, как именинный десерт, затеянный тайно от гостей.
Стоя с ней рядом, Георгий прилаживал свою внешность то к одной, то к другой, выставленной на всеобщий показ красотке.
А она рассказывала ему о муже, о том, как он трогательно глуп, и теперь уже поздно думать, что ей еще попадется человек, с которым будет не только нескучно, но и интересно.
– Вот и живу невстреченной, – томно сказала она.
А потом они с нею очутились на сеновале, на котором та никогда в жизни не бывала. И при первом же к ней прикосновении она смятым голосом пообещала:
– Я сама…
Но медлила. То ли думала, то ли не решалась. И он – грудью – навальным давом прижал ее к слежалому сену.
Она непокорно напряглась и переплела ноги точь-в-точь, как были ухлестаны два вышедших на поверхность корня ясеня, считай, под кроной которого они волтузились.
– Ты же… сама… сказала?.. – давя в себе одышку, прошептал он.
Она молча каменела и каменела, словно ее сразил какой-то столбняк.
Мгновенье он еще лежал на ней, потом, прохваченный ознобом, сполз и, понадеявшись, что не будет понят ею, старомодно произнес:
– Буду рад и еще видеть тебя тут!
Она молчала.
– Так что захаживай!
И опять ни звука.
Тогда он стал спускаться с сеновала один.
И тут она ожила. Но и это, казалось, тоже твердило душу. И ему подумалось, что она сейчас занята только одним, чтобы как можно по-солиднее обставить свой отказ.
– Я тебя люблю! – сказала она вдруг и неожиданно зачастила: – Я долго чуралась этого чувства, но теперь это стало выше моих сил!
Он расслабленно сполз вниз. Сполз и сел на прицапки у лестницы, словно был застигнут кичливым светом ревизора, который спросит про билет.
И вслед за этим светом на крыльце появились Деденев и Абайдулин.
– Мгновеньями мне кажется, – произнес Артем Титович, – что как только к ним попадут мои чертежи, они тут же избавятся от меня с легкостью неимоверной.
– Но почему? – вырвалось у Климента Варфоломеевича. – Ведь ты все это, можно оказать, выстрадал. Все прочие пользовались ворованным. А ты…
Где-то рядом хрустнула ветка, и старики умолкли. И, видимо, с души скатилось ощущение, что они одни. И тогда они двинулись туда, где блеклые пятна разноцветно теснились у подножья дома, а бледнолистый тополь купал свое отражение в луже. И потому казалось, что именно от этого купания он и отмылся до этой неприличной – даже ночью – бледности.
– Ты знаешь, – тем временем повел свою речь Абайдулин, – порой мне кажется, что все предметы, на которые я смотрю, заострены. Получается готика какая-то! Вот это гляжу на мяч, которым играют ребятишки, и он мне видится, не поверишь, – квадратным. Но я-то знаю, что мяч бывает кругл.
– А мое обоняние последнее время, – тоже пожаловался Деденев, – терзают резкие, как удар хлыста, запахи.
– Мне один академик, ему уже за девяносто, говорит, что ощущает, как в его голове торжественно протекают мысли, и, чтобы до конца их выразить, ему всякий раз хочется стать камнерезом.
– Но это, брат, уже возрастное, – произнес Деденев.
– У него? – спросил Артем Титович.
– Да у всех у нас троих! – невесело усмехался Деденев, и они медленно, подталкивая друг друга, убрели в дом.
– Ну слазь! – подал голос Прялин.
И вновь ему не последовало ответа.
Тогда он поднялся на сеновал.
Его так называемая любовь простонародно спала.
И вот когда нынче в его кабинете появился Абайдулин в такой растерянности, что сразу можно было понять, не с доброй вестью наведывался он к нему, Прялин вдруг вспомнил тот вечер в деревне, вернее, утро, когда Артем Титович первым застал Георгия, спящего в обнимку с чужой женщиной. Такой же был у него тогда растерянный вид.
– Он выстрелил себе в ухо! – на запыхливости сообщил Абайдулин и сморщился так, словно через мгновение сам должен был бы сражен именно сюда.
Потом он, не ведая зачем, стал вспоминать подробности своей прошлой жизни, словно они сейчас имели какое-то значение. Особенно то, как он когда-то помог соседскому мальчишке приладить голову к снежной бабе. И вообще, как неусидчивость, поспешность и вообще суета одряхляли стройность намеченного им течения дня, где за пробуждением шла зарядка, за зарядкой утренний туалет, потом завтрак, прогулка, письменный стол, обед…
Георгий, не ведая зачем, но поощрительно улыбнулся, и тогда старик задушевно произнес:
– Жениховство свое я сносил стойко, с девками не якшался, друзей избегал. Про карты и думать забыл. А вот вином порой баловался. Для смелости. И для красноречия. С самим собой.
Он на минуту умолк, словно проверяя, не очень ли далеко отвернул мыслью от той колеи, которой себя стремил, и продолжил:
– Ужинá взглядов была убийственной! Тут столовались все, у кого в кармане копейка с копейкой встречалась реже, чем блудный сын со своими родителями.
За окном мутно блек закат, и Прялин хотел спросить, когда же будут похороны или вообще какой-либо ритуал прощания с покойным, ибо понимал, что душа старика была искривлена возрастом, потому все, что воспринималось другими напрямую, для него доходило через уродливую приставку прошлого.
И он расшатанно поднялся, видимо, все же застигнув себя за тем, что побочная мысль, отщелкнувшаяся от общего течения думы, была далека от того, зачем он сюда пришел.
Поэтому он про себя перечел, видимо, им написанное и, ухнув, разорвал.
– Нет! – сказал. – Не могу поверить, что его…
И – не договорил, может быть, опять его памятью откачнуло не туда куда надо.
А потом Прялин уехал на эту дачу.
День отсырел где-то к обеду. И не дождь тому был причиной, и даже не туман. Просто отволг воздух. Встрепенулась чуть привяленная жарою зелень, и влажно задышала львиная пасть пораженного грозою клена, который, свихнувшись в комле, подвспучив и чуть подвывернув землю, но не оголив корня, остался стоять в этой львиной позе.
Только тут Георгий неожиданно поймал то ощущение, с которым пребывал последнее время. Он не хочет видеть мертвым Деденева. Его простреленную голову, изуродованное, теперь наверняка замотанное, ухо и жестковатые, видимо, сведенные в суровость губы, которые когда-то сразили его слух своим, как теперь выяснилось, прощальным поцелуем.
Он мутно признался, что еще и боится всего случившегося. Боится оттого, что какая-то неведомая подоплека жила последние дни в их идущей к финалу дружбе. Он вспомнил, как накануне звонил Деденеву. В трубке долго зрела и томилась тишина. И была она разнотонной: то до звона натянутой и тревожной, то басовито опущенной, как сошедшая с колка верхняя гитарная струна и действующая на слух успокаивающе и томно.
Потом пришел голос. И он, только отдаленно напоминающий голос Климента Варфоломеевича, нитяно тянулся в трубке и, казалось, оборвавшись раз, уже никогда не возникнет вновь. Но он возникал и – какое-то время – неожиданно громко и отчетливо нанизывал одно слово на другое, а потом опять стачивался на нет. Поэтому последние слова слились в одну непонятную фразу, из которой можно было выудить три сродных друг другу понятия: «Видаюсь… повидаюсь… видеть тебя хочу…»
Нынче все это приобретает какие-то мистические формы. А тогда казались издержками связи и потому не вызывали беспокойства.
И, если честно, Георгий уже через минуту после того, как повесил трубку, забыл об этом разговоре. Потому как день настолько был насыщен служебной суетой, беготней по делу, мытарствами без дела ну и всем прочим, чем постоянно жило это солидное здание на Старой площади.
Горбачев относился к нему ровно, и не приближая особо, и не отдаляя настолько, чтобы забыть, что он есть, и эта ровнота почему-то чуть-чуть злила, что ли. Вернее, тревожила.
Только один раз в глазах Михаила Сергеевича проскользнула мысль заинтересованности: «Понравится или нет?», это в пору, когда он познакомил Прялина со своей женой Раисой Максимовной.
– Помнишь, он в Ставрополе к нам приезжал? – спросил Горбачев.
Она, протянув свою узкую, словно рыбка-секлюшка, ладошку, явно соврала:
– Конечно! – И сделала комплимент: – А вы не меняетесь!
И Прялин встрепенулся, что должно означать, что неожиданно завеселел.
Потом, сбавив свое фальшивое волнение, Георгий, переглотнув, ответил – и тоже неуклюжим – комплиментом, суть которого звучала примерно так, что и Михаилу Сергеевичу страх как повезло с такой очаровательной и тоже не меняющейся с годами женой.
Кажется, по глупости он сумел сравняться с ней.
Вернувшись в реальность нынешнего дня, Георгий прошелся по комнате, вспомнив, что когда он тут был первый раз, вон на том высоком поставце был воздвигнут патефон. Теперь тут стоит телевизор. И не абы какой, а цветной. Тогда, помнится, одетый во все балахонное, он зашел к соседям, где жила девица, бросающаяся в глаза своей соблазнительной дурашливостью. О чем они говорили, он не помнит, только знает, что в бестомительном сладком азарте она отдалась ему, даже забыв спросить его имя.
Помнил он и тот уютный, этакий домашний вокзальчик, куда обычно собиралось под вечер все мужское население округи. И именно там, в коридоре, нестойко проживал веселящий ноздри запашок. Его приносили с собой те, кто выходил из левой части вокзала, где был полупустой, но таинственно обожаемый буфет. Возле его стойки и толкались эти мужички. Не видать, чтобы пили. Да и закусывали тоже. А вот запашок уносили. И почему-то непременно шли в ту часть зала ожидания, где было написано: «Места для пассажиров с детьми». Там они с удовольствием дышали, кто-то даже порывался покурить. Но его останавливали товарищи. И между ними, как скрип сцепок, култыхался иносказательный, из одних намеков разговор.
– Как нынче парок? – спрашивал один.
– Ништяк! – отвечал второй.
– А чего же из ноздрей не идет? – вопрошал третий.
Не всякий бы понял, о чем речь. А Прялин знал. Это мужички обсуждают качество самогона, которым из-под прилавка шаловливо торгует буфетчица Тося, двоюродная сестра того, у кого Георгий снимал дачу.
Хозяина дачи звали Каллистратом. Он был вял на движения, но быстр глазами и скор на язык. И вот эта аритмия и делала его забавным. В складках его мозга, как он утверждал, жили мыши.
– Веришь, иной раз вот так ночью скребышат, скребышат, – рассказывал он. – Потом попискивать начинают. И вот тут-то я как котом заору! И веришь, сразу куда чего девается!
Он на минуту умолкал, потом продолжал:
– Может, меня ученым показать? Гляди, я и для науки сгожусь. У нас, говорят, вон там, – указал он на придвинувшийся к дачам одинокий четырехэтажник, – один Соломон живет по фамилии Дымшаков, так он свой скелет давным-давно продал для научного обобщения. Потому и в землю зароют только бурдюк.
Напротив того сугубо городского дома был скучноватый, из низеньких кусточков, сквер с пестро раскрашенными, без грядушек похожими на ящериц скамейками. Сквер этот редко привлекал к себе любителей отдохнуть. Его просто терпели, как то, что со временем перерешится само собой. Но чаще его обходили как вниманием, так и надобностью. И потому дали ему странное название Мотузок.
Когда же достаточно темнело, чтобы слить с остальным пространством серость скверика, а лампы, коконами свисавшие с изогнутых над скамейками столбов, еще не наливались молочно-тусклым, каким-то прокислым светом, сюда – по спешной команде – заглядывали торопливые выпивохи из тех, кто не привык рассусоливать и считал самым надежным хранилищем спиртного собственный желудок. После них в скверике оставалась порожняя посуда. Ее, по первой рани, собирал наутро житель четвертого этажа дома напротив Дымшаков, делая – для досужего глаза – вид, что старательно выгуливает ничейного, за ним увязавшегося пса.
В это же время, а может, чуть ранее, на скамейки начинала садиться сажная жирность. Ее испускал из своих недр близкий к этому дачному прилепку завод, где целую ночь, закипая светом, веерно гнездилась электросварка.
Сейчас Каллистрата дома не было, но его заменял такой же докучный, как и хозяин, сверчок. Когда же он пресекался, начинали вышарошивать из себя звуки старинные, лишенные молодого боя часы, В коридорчике кто-то взвозился, и в дверь просунулась сперва только лисья мордочка, а потом и сама тощенькая, палочной выправки бабенка, как знал Прялин, – полюбовница Каллистрата.
– Здрасьте! – сказала она, словно споткнувшись о порог.
Георгий махнул головой.
У нее, как у Каллистрата, тоже были быстрые глаза и, наверно, раз пребывали в такой остроте, бойкие локти.
– Извините! – сказала бабенка. – Но, по-моему, это вас зовут к нашему телефону.
И Георгий вспомнил, что действительно просил, ежели что спешное, найти его по телефону соседей. Но никогда не думал, что в этом появится такая уж надобность.
Он взял трубку с вилкой, которую можно будет воткнуть в розетку у соседей, и, накинув на плечи пиджак, вышел за бабенкой.
– А правда, что вы в ЦК работаете? – спросила она, когда они оказались в соседском дворе.
– Конечно, – ответил он тоном, который не успел подладить под то нейтральное настроение, с которым решил вести себя со всеми, кто любопытствует без умысла.
– А как вам жалобу написать? – поинтересовалась бабенка.
– На кого?
– Да на вокзальное начальство. Развели там чуть ли не всесоюзную питейницу. Житья не стало от этих алкоголиков!
И тут Георгий вдруг вспомнил, что сестра Каллистрата терпеть не может эту вот бабенку. И, видимо, не зря.
Прялин взял трубку, увидев, что штепсель втыкать некуда. Розетка, которую он высмотрел тут прошлый раз, была вся уверчена голубой изоляционной лентой.
– Я слушаю! – произнес он.
– С вами говорит Деденев, – раздался знакомый голос, и Прялин чуть не выронил трубку из рук.
«Неужели это розыгрыш?» – пронеслось в сознании. И тот, кто был на связи, видимо, понял смущение Георгия, потому поспешно прояснил:
– Я – сын Клима Варфоломеича. – И тут же представился: – Меня зовут Вениамин.
– Сын? – переспросил Георгий.
– Ах да! – вырвалось у Деденева-младшего. – Вы же меня не знаете! Вернее, не подозреваете о моем существовании. Я, как принято говорить, незаконнорожденный.
Прялин молчал.
– В общем, – сказан Вениамин, – мы вас ждем на похороны.
Прялин знал, что Деденев не упражнял себя в мести и в том мстительном угодничестве, от которого, как от оскомины, сводит скулы. Но вместе с тем и таил, как это выяснилось в последнее время, скрытую неприязнь к евреям, как-то нечаянно провозгласив:
– Они берут истомьем наше внимание.
Георгию хотелось сказать: «Ну и пусть! Что тебе от этого?» Но он смолчал. Старик ему нравился глубиной знаний в том, где он был настоящим докой. И еще симпатичен был неожиданными наблюдениями. Как-то зашли они с ним в магазин. Ну что-то там купили, и он вдруг говорит:
– Видел девушку на кассе?
– Конечно, – ответил Прялин. – Приятная такая…
– Не скажи! Она даже красивая. И работает споро, скорее, весело. А глаза холодные, как подержанные полтинники. Взгляд сквозит металлом.
И с тех пор Прялин стал приглядываться к людям более внимательно. И даже упрекнул себя, что на самом деле мало обращал взор на то, что, как говорится, было на поверхности.
Однажды побывал Деденев в Канаде, где перед этим пришлось целый месяц обретаться Георгию, и спросил:
– Видел, какой в Калгари веселый народ? Ходят люди по улицам и улыбаются. А это потому, что они на улицах отдыхают. А дома и на работе – вкалывают. А мы отдыхаем в учреждении: чаи, кофеи и всякие «морские бои». Поэтому до перестройки сознания, дорогой мой, нам ой как далеко!
Как-то они проходили мимо нищего, который рыхло ныл.
– Ну погляди какой лоб! – возмутился Деденев. – Ему надо пахать да пахать. А он тут ломает комедию. «Убогий», говорит. Настоящие убогие, они, брат, давно у Бога в услужении.
Как сельский житель, он многих городских выкрутасов не мог ни понять, ни принять.
– Ну вот смотри, – говорил он. – Магазин закрывается в семь, а реклама посетить его призывает всю ночь. Точно для того, чтобы уяснить, где он, и отыскать днем, надо непременно дождаться ночи.
И вот, вспоминая Климента Варфоломеевича, Прялин никак не мог представить его мертвым. Тот образ, который он себе нарисовал в первые минуты скорбной вести, куда-то отошел. Вернее, его оттеснили воспоминания о Деденеве. И сейчас, ко всему прочему, к нему пристал прилипчивый мотивчик. И он уже преследовал его второй час. Георгий не мог сказать, где слышал его и слышал ли вообще, или он родился в хаосе докучливых уличных звуков и, преобразовавшись в стройность, застрял в памяти. А через какое-то время он стал подгонять к нему и неожиданно пришедшие на ум слова, в каком-то старорежимном стиле:
А в той дальней во сторонушке,
Где кричат грачи-воронушки,
По душе скребут боронушки,
Доведя меня до стонушки.
И – опять-же попутно – вспомнилось, как они с Климентом Варфоломеевичем жили в одном селе на квартирах. Он в одном доме, а Прялин в соседнем. И если Георгий стоял у своей хозяйки на квартире, как все смертные, то Деденев – жительствовал. И бабы, завидев его чуть ли не на горизонте, отвешивали ему свои признательные поклоны.
Тогда Георгию не было понятно, почему к нему у всех сложилось такое отношение. И только много позже он открыл, что Климент Варфоломеевич был им понятен и оттого страшен, что ли. Помнится, он повоспитывал какое-то время юлеватого – голыми руками не возьмешь – бухгалтера. Была у того короткая, чем-то напоминающая сапожную щетку бородка, и вообще от него всегда несло гуталином, но вместе с тем так умел управлять своею внешностью, что коли кто его видел со стороны, то решал, что он ежели тут не главный, то близко около этого. И была у него еще привычка где-то внутри себя звенеть. Это он в кармане ощупкой перебирал ключи. И ежели к этому добавить решительный распах дверей, как бы говоривший, что сюда пришел хам или хозяин, становилось понятно, что бухгалтер не из тех, кто поддается дрессировке или еще какой-либо принудительной науке.
Прялин не знает, о чем те пять минут говорил Деденев с бухгалтером. Только тот вернулся встрепанным, нервным, с охваченными белью ноздрями. И так после этого прижух, что его и слышно не стало.
А тем временем приближалась Москва, а Георгий не мог настроить себя на то самое настроение, при котором лепится скорбная маска. И поэтому бессильно признался самому себе, что уже отболел этой утратой. Она списана в прошлое, хотя тот, кто ее породил, не предан земле, вернее, огню.
Гражданская панихида почему-то была назначена в заводском Доме культуры на «Серпе и молоте». И Прялин наперед знал, что там наверняка уже выступили старые коммунисты и пионеры прочитали стишки местного поэта Филатова.
Наконец, тряские, чуть ли не довоенные вагоны причалили к вокзалу, и Георгий пошел ловить такси.
И только тут он почувствовал, что душу подмыло чувство невосполнимой утраты. Словно среди беглых ночей выслезилась одинокая звезда и уколола его так, что он взволновался еще больше.
Таксист, в салоне машины которого уже сидело двое, все же притормозил.
– Меня в крематорий, – повелел Прялин. И один из пассажиров чуть было не хмыкнул. Но другой, что был намного старше, ущипнул его ниже локтя и продолжил, видимо только что прерванный, разговор:
– Там столкуетесь. Только не очень ломи свою цену.
На стекло, несколько слезя его, стал прикрапывать дождь. И вроде именно от этого стал доноситься сюда какой-то слитный, издаваемый не только машинами, но, кажется, и самими зданиями рокот. Этот рокот, близясь, разламывал пространство, и оно отхлынывало в разные стороны, словно вода, в которую ухнул камень, разносило вправо и влево благовест более мелких и менее значительных звуков. И если волна прикатывала чье-то отражение, водитель вскидывался и давал возможность тому, кто, как тюлень, плюхался тенью поперек дороги, доплыть до противоположной обочины. И только после этот снимал подошву с педали тормоза.
Тот, что советовал больше торговаться, откинув голову назад и выпятив кадык, выдувал из себя храп. А молодой тем временам глядел по сторонам, и глаза его меркли от этого бессмысленного блуждания, и их тусклила скука.
– Ты хочешь, чтобы враг об этом знал? – вдруг заговорил во сне пожилой, наверно, видя какую-то бессчетную серию боевика.
– Враг? – переспросил шофер. – А кто он, этот враг? Какой? Внешний? Но ему до нас дела нет. А внутренний, так он…
В эту фразу вмешалась трель милицейского свистка. А точку поставил взвизг тормозов.
Сержант шел так, словно его только что – в анал – посношал взвод сослуживцев.
– Млаад Деденев! – представился он.
– Неужели? – вырвалось у Прялина. – Вы, случаем, Клименту Варфоломеевичу не родственник?
Сержант глянул на Георгия так, словно тот требовал от него взятку, и буркнул:
– Мой родич был Климент Ефремович.
И младший из спутников чуть не поперхнулся похожим на взрыд смехом.
– Отведите автомобиль вон на ту площадку, – указал жезлом гаишник.
– Но товарищ сержант! – взмолился старший из спутников. – Мы на деловую встречу опаздываем.
– А меня дома жена ждет! – дерзко пошутил милиционер. И, обратившись к Прялину, нагло спросил: – Вас, надеюсь, тоже?
– Я тороплюсь в крематорий, – неуверенно зачал он.
– Зря! – ответил гаишник, – Туда обычно не спешат.
И опять молодой засмеялся.
Георгий смотрел в лицо милиционера, на его нос, где было так мало веснушек, что их хотелось немедленно пересчитать.
– А этого орла, – кивнул гаишник на шофера, – я задержу за просрочку техосмотра.
– Ну тогда отправьте нас по местам, куда мы едем, – обратился к нему старший из пассажиров.
– Вон обочина в вашем распоряжении, – ответил сержант.
– Но ведь они возле вас не остановятся, потому как подсадка запрещена, – начал Прялин.
– Это не мое дело.
И, наконец, Георгий решил использовать главный козырь:
– Но я еду хоронить вашего однофамильца.
– А где это написано?
– Ну почему вы мне не верите?
– Не положено.
– Что – верить?
– Нет, нарушать.
И только тут Георгий неожиданно вспомнил, какое везде магическое действие оказывает его удостоверение, с которым он проникает в святая святых партии.
И он, отозвав гаишника в сторону, чуть нагловато произнес:
– Я думал с вами договориться по-человечески, но вы языка примата не понимаете!
– Какого? – сморщил нос милиционер.
И тут Прялин торжественно распахнул перед ним свою, по-блатному говоря, «ксиву».
Первое, что он услышал, это бульк в горле гашника. Наверно, он проглотил ту язвительность, которой хотел воспользоваться в следующую минуту. Потом Прялин заметил, как у того водвыструнилась спина и рука метнулась к козырьку.
– Извините, товарищ! – сказал гаишник таким радостным голосом, словно все это время убеждал Прялина в том, что он лучший человек на свете.
Георгий повернул к машине. И сержант – жестом – показал водителю, что тот может ехать. А потом, спохватившись, выскочил перед потоком машин, что шли на зеленый, свистком остановил их и сделал им в неположенном месте левый поворот.
– Что это вы ему показали? – обалдело спросил молодой.
– Да взятку дал, – произнес старый, лапая себя по карманам и обращаясь к Георгию: – Сколько мы вам должны?
Прялин отмахнулся сразу от обоих и попросил:
– Только довезите меня первым.
– Какой вопрос! – сказали они чуть ли не в один голос.
А когда подъезжали к крематорию, Прялин произнес:
– Шесть!
– Шесть рублей мы должны? – встрепенулся старый.
– Нет, шесть конопин на носу у гаишника.
И тихо улыбнулся. Зная, что это улыбка в этот день у него явно последняя.