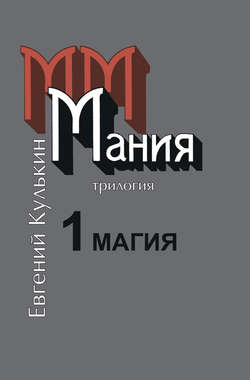Читать книгу Мания. 1. Магия, или Казенный сон - Евгений Кулькин - Страница 11
Глава третья
2
ОглавлениеИ – грянули поминки! Именно грянули, потому как на них было человек двести, если не больше, и отрядили под это, так и хочется сказать «торжество», громадный ресторан, в котором задрапировали зеркала и чуть убавили свет в плафонах.
Кто там правил, главенствовал и вообще распоряжался, Прялин понятая не имел. Но на входе его и Абайдулина подхватила под руки какая-то женщина в траурной накидке и повела за стол, что находился в глубине зала. Там, сразу же увидел Георгий, сидела сестра Климента Варфоломеевича, тоже в черном платочке, и какая-то яркая брюнетка с непокрытой головой. Тут же обретались – судя по знакам на груди – герои труда, разные лауреаты и один дедок даже с Георгиевским крестом в петлице.
В последний момент неведомо откуда вынырнул Вениамин – сын Деденева. На похоронах Георгий его рассмотрел. Не только голос, но и внешность его была поразительно схожа с тем, кого он беззастенчиво именовал отцом, хотя по фамилии вовсе не был Деденевым.
Там же, вернее, на кладбище, Георгий узнал что Вениамин поэт, член Союза писателей и что подписывается «Вен. Бейм». Фамилия это или псевдоним, Прялин так и не выяснил.
Рядом с Вениамином было несколько литераторов, которых Прялин знал в лицо, а с поэтом Володей Соколовым даже пил водку.
Остальное множество, которое расположилось по обе стороны от, так сказать, главного стола, представляло из себя однородную, по большей части улыбчивую массу, и Прялин попервам не заметил там ни одного знакомого лица.
Абайдулин пребывал все в той же растерянности. Казалось, что он точно знал, под каким стулом заложена мина, и теперь только высчитывал, когда же произойдет взрыв.
Подошел какой-то незнакомый чернявец. Высказал – персонально – соболезнующие слова сестре Деденева, потом той женщине, что сидела распокрывши, и только тут, видимо, заметив Абайдулина, ринулся к нему.
– Дорогой Артем Титыч! – воскликнул он на слезе. – Какого человека потеряли!
Он словно пробовал, каков же Абайдулин на ощупь, все время облапывал его по плечам.
– А это тоже наш друг, – кивнул Артем Титович на Прялина. И чернявец приник к нему, словно Георгий был неопознанным им сразу его ближайшим родичем.
Теперь Прялин мог рассмотреть пришлеца. Он имел темноватые височные впадины и впаленькие, с плавным перекосом щеки.
А тем временем зал набирался слитных, почти однотонных звуков, и со стороны казалось, что так укачливо гудит сосновый бор.
За окном же, где жило ненастно-бледное однотонье, вдруг родился проблеск, а может, промельк, и что-то невидимое, но осознанное, что оно есть, означилось чуть четче, чтобы хоть на миг сдвинуть эту серую унылость.
Говоривший для вящей бодрости приложился к вину и произнес:
– Вот за что не люблю поминки, тут все по команде. Как в казарме.
Он закусил чем-то легким и сказал Абайдулину:
– Ну захаживай!
И отошел к другому столу.
– Кто это? – спросил Прялин.
– Да профессор один. Дрожак его фамилия.
И тут Георгий неожиданно увидел Конебрицкого.
Константин сидел за их же столом, только с самого края, и с кем-то неторопливо беседовал.
Официантка поставила посередине стола блюдо из «живой», видимо, только что с грядки, наспех резанной капусты, которая, топорщась, не принимала уксусную приправу, какой хотела ее подмаслить поворская братия.
Тут же рядом с блюдом появилась рюмка водки, которую накрыли кусочком хлеба, и Георгий понял, что эти символические дары принадлежат душе покойного.
Сосед слева, который и здоровался как-то осторожно, словно воровски, говорил кому-то через стол:
– Христос – это литературный образ, в которого поверило все человечество.
– Почти все, – уточнил его собеседник.
– Пусть будет так. Но кто создал Христа? Само же человечество? Нет, кто-то хитрый и ехидный, может, тот же Иуда.
Говоривший глянул на Прялина, и тот на всякий случай кивнул. Пусть думает, что ему все понятно. И, главное, считает его своим если не единомышленником, то вполне приличным нейтралом.
К блюду с капустой, видимо, символизирующей его отношение к земле, и рюмке с водкой прибавилась и тарелка с супом, в которой кудрявым бликом плавало солнце.
Прялин чуть подобернулся и увидел еще одного своего знакомого – писателя из Волгограда Куимова. Геннадий Александрович был со своей супругой поэтессой Светланой Ларисовой.
– О! – вскричал Куимов. – Я же говорю – Ноев ковчег! Кого тут только нету!
И он подошел к Прялину.
– Я, пожалуй, перейду к вам, – сказал Георгий, увидев, что рядом со Светланой есть свободное место.
– Иди, – произнес Геннадий. – Но учти, что тебя могут хватиться.
И – не ошибся.
Как только Прялин направился к столику Куимова, как невесть откуда появилась та самая, что их с Абайдулиным привела, женщина в траурной накидке и тихо поназидала:
– Сидите, пожалуйста, по своим местам.
И опять куда-то скрылась.
Геннадий понимающе развел руки.
Сперва Прялину казалось, что ждут священника. Вернее, кто-то сказал:
– За попом поехали.
А потом, когда в зал зашло несколько человек, увидя которых некоторые чуть не зааплодировали, он понял, что ждали какое-то начальство, именно оно припожаловало в последнюю минуту.
И точно. В динамиках послышалась хрипотца и торжественный голос сообщил:
– Есть предложение по старому христианскому обычаю помянуть нашего товарища и друга, соратника и просто хорошего человека Деденева Климентия Варфоломеевича, так не вовремя оставившего наш мир на хребте высочайших социальных преобразований.
Говоривший, видимо, отник от той бумажки, по которой читал заготовленный заранее текст, и произнес совершенно другим, менее засталившимся голосом:
– Пусть земля будет ему пухом!
И тут же все вокруг оживленно завозились, чуть ли не загигикали, потому как Деденев ушел-то вовсе не в землю, а сгорел на огне. На это кто-то громко и сказал:
– При жизни по угольям ходил и сейчас в золу превратился.
Выпили, естественно, не чокаясь, по первой. Зажевали кто чем, и пошли речи, которым, казалось, не будет конца.
Что только не мололи, о чем только не вспоминали. А потом к микрофону подошел Вениамин Бейм.
– Разрешите мне, – сказал, – прочитать стихи, которые я только что написал в память о своем отце.
Все замерли.
– Только они, – продолжил он, – сугубо личные, и ежели кого-то малость шокируют, то заранее прошу извинения.
Пауза была выдержана в классических тонах, и заунывно торжественный, совершенно недеденевский голос повел:
Ты был ослеплен и державен,
Ты был возвеличен толпой,
И даже немыслимый Сталин,
Который лишь Господу равен,
Беседовал чинно с тобой.
Ты внес осторожную лепту
За то, чтобы явное вновь
Однажды призвало к ответу
Рожденную страстью любовь.
И вот я стою пред тобою,
Похож, как две капли воды.
Идущий иною тропою,
Которою шествовал ты.
Признай же сегодня отцовство.
Ошибки, что сделал, признай.
Забудь о своем производстве,
Что так возвеличило край.
Кто-то уронил, кажется, вилку, и лицо Вениамина дрогнуло, и он чуть быстрее стал читать дальше:
Уступки, усушки, утруски
Ты нес, словно кладь, на плечах.
И умер ты очень по-русски.
Державным умом не зачах.
И вот собрались на поминки,
Стараясь ту жизнь побороть.
Чтоб жизни сложить половинки,
Ее надо вдруг расколоть.
Неожиданно всхлипнула, а потом и завела причит в голос сестра Деденева. Но это не сбило Бейма. Он уверенно вел:
И вновь неожиданно как-то
Познать заповедную ложь
У самого дерзкого тракта,
Где грабят за то, что живешь.
И тракт этот жизнью зовется,
Вернее, ее бытием,
Где каждый страдает и бьется,
Как сом на кукане своем.
– Это точно! – вскричал какой-то старичок, пьяный уже оттого, что рядом столько много народа.
А Вениамин, чуть подняв голос, заключал:
И если однажды поймешь ты,
Что снова зело повезло,
То браунинг старый возьмешь ты,
С которым поехал в село.
И выстрелишь так откровенно
В то место, которым был глух,
Чтоб грех до восьмого колена
Клевал, словно черный петух.
Чтоб давняя присказка зрела:
Подкову найдешь – разогни,
И чтобы державное дело
Твои не итожило дни.
А личное… Что в нем корысти?
Отец! Я – живой! Я – у ног!
Достойный резца или кисти,
Тобою низвергнутый Бог!
Паузе не дали постоять и секунды, тут же раздались сперва жидкие хлопки, а потом и целая овация. Все смотрели на Вениамина, который, словно позируя художнику, томно опустил долу свои очи.
Прялин глянул на Куимова. Тот, упершись лбом о запястье, кажется, прикрыл от стыда глаза. Как-то виновато, точнее, загнанно улыбалась Светлана Ларисова. Зато Конебрицкий ликовал. Вскочив, он то и дело выкрикивал:
– Браво!
– Ну как тебе сынок? – спросил Прялин Геннадия, когда они после поминок вместе вышли на улицу.
Шел дождь. Но мелкий и такой как бы спотыкающийся. И глохлые звуки, медленно копошащиеся в отдалении, копились в сознании, чтобы каждый мог, рассортировав их, понять, что чуть погуживает – это завод, а пошикивает – паровоз-кукушка, к тому же надрезая тишину своим резким, срывающимся в сиплость гудком.
– Его смерть, – тихо начал Куимов, – была предлогом, чтобы показать, кто есть кто.
Георгий кивнул.
– А потом, – продолжил тот, – будут говорить примерно так: «А помните, мы с вами встречались на поминках? Какой был человек! И представьте, мой лучший друг!»
– Ну уж ты наговоришь, – не согласилась Светлана.
– Мы недавно с ней, – кивнул он на жену, – были в одной компании. Ну среди прочего разговора речь зашла о Боге. Ну один что-то сказал, второй. И вдруг одна особа как закричит: «Что вы мне этим Богом голову морочите?» И – в рев. Насилу ее успокоили.
– В самом деле, чего она сорвалась, до сих пор неясно, – подтвердила слова мужа Ларисова.
– Да что же тут непонятного: ненавидят они не только нас, но и веру, которую мы исповедуем. И Россия для них, как гора искушения.
Прялин знал Куимого давно. Ведал о его привязанностях, тяжелых, как болезнь, которые он переживал с томительной последовательностью: сперва шли вздохи, перемежающиеся сомнениями, потом, вроде бы случайные встречи с той, которая стала предметом вожделения, следом – уже надоедливое – препровождение и наконец тягостное преследование с истерикой постоянной ревности и, как правило, необоснованными упреками.
Однажды, гостя у Геннадия, Прялин оставил у него одну подтяжку. Что потом было – и не описать! Светлана рассказывала, как он, явившись среди ночи из якобы длительной командировки, первым делом, войдя в квартиру, рывком отпахнул занавесь, что загораживала дверь на балкон. Там никого не было. Но ревность, видимо, еще хмелевато бродила в крови, потому он, хотя и без прежнего рвения, заглянул в шкаф и даже за диван. И вдруг заметил, как со шкафа свисает подтяжка…
И Прялин до сих пор не знает, что надрало его позвонить как раз в эту минуту и спросить про свою пропажу.
А Светлана уже рыдала в трубку.
На углу следующей улицы они расстались, и Прялин вдруг почувствовал себя страшно одиноко. И он, наверно, повернул бы назад, чтобы «захомутать» того же Конебрицкого, хоть с ним выпить где-то в укромном месте и просто – вольно – поболтать о том о сем.
Но в последний миг он от этого намерения отказался, надеясь рассеяться дома, в семье, там, где его наверняка уже заждались.
Чаще грусть его не имела причины. Она накатывала неожиданно. Щемила душа, и горло щекотали слезы.
Обычно вспоминался интернат, хоть и вполне обеспеченное, но сиротство, больше, конечно, сиротство души, и длинная череда мерзости, которая сопровождала ту самую жизнь, что была проведена вне дома.
Дождь тем временем перестал, и в тучах стали проламываться фиалковые прогалы.
И тут возле него неожиданно притормозила машина.
– Я не посмел к вам подойти, – опустив стекло, сказал легкий на помине Конебрицкий.
Прялин встрепенулся, но ничего не ответил.
– А потом, – добавил Костя, – у меня к вам разговор есть.
И кто-то из глуби машины уже распахивал перед Георгием дверцу.