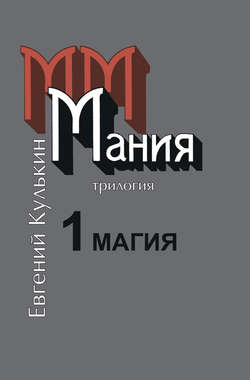Читать книгу Мания. 1. Магия, или Казенный сон - Евгений Кулькин - Страница 14
Глава четвертая
2
ОглавлениеАлевтина сроду бы не догадалась о причине их развода. Вернее, разбега. А скорее всего, бегства только его одного.
Конечно, отдаленно она думала о том, что он, как-то вызнав, что она – мимолетно – поимела дело с бракушей Триголосом, когда ей очень была нужна икра для зело большого областного начальства, сделал, так сказать, выводы.
Но ведь Веденей клялся, что сроду и словом об этом не обмолвится. И вот, видать, стервец, разболтал! И Максим смолчал, но не простил.
Да и как можно было простить, когда к ней он все это время шел с распахнутом душой. А вот она…
Казнение было довольно длинным. Только на третий или на пятый месяц она, наконец, успокоилась. И сперва хотела как-то поговорить с Чемодановым, как говорится, по душам. А потом раздумала. Ведь не примет же она его обратно от этой зачуханной Матрены?
Но Алевтине и на краешек сознания не наступала одна мысль, что Максим ушел от нее совершенно по другой причине. Он вдруг заметил, что она чрезмерно любопытна. Стала, к примеру, проверять: в самом ли деле он ездит по выходным в баптистский молельный дом, в секте которого состоит, или виляет куда-то на сторону?
И вот это и заставило его срочно сменить крышу.
А про Триголоса он тоже знал. Причем во всех подробностях.
И еще не ведала Алевтина, что Максин Петрович не тихий, почти забитый бухгалтеришка, наконец выросший неожиданно до главного, а матерый уголовник, хранитель воровского общака по кличке Банкир.
Ежели кликуха у него всегда была одна-единственная, то фамилий пришлось переменить великое множество. Он был и Бибениным, и Квакиным, и Лязгиным, и Михериным, и Нуделем, и Перхутно, и даже Бейлинсоном.
Его всячески оберегали от разного рода провалов, потому как он, как никто другой, мог блюсти тайную кассу и не позволял не только разворовывать, но и точно знал, когда и кто обязан ее пополнять.
И потому история с кражей денег, которые неожиданно были найдены, придумана им самим, а осуществлена теми, кого уже нету в живых. О Банкире должны были знать единицы.
И вот сейчас Чемоданова очень обеспокоило, что к нему совершенно не вовремя наведался Прыга.
Нет, он ему доверял как самому себе. Но Максим Петрович терпеть не мог импровизаций. Он считал, что там, где вступает в дело художественное мышление, надвигается провал.
Правда, он не боялся того, что грянет какая-либо беда, потому как знал – общак находится в такой защищенности, что до него вряд ли кому-либо доскрестись. А все другое для него, в том числе и собственная жизнь, не имели никакого значения.
Как-то один очень большой авторитет сказал:
– Ежели бы ты был животным, то уже стал бы ископаемым, а поскольку ты человек, то быть тебе музейной редкостью. Когда-нибудь тебя будут показывать за деньги.
Банкир на такую похвалу отозвался грустным хмыком, а сам подумал, что конечно же верно поступил, что весь общак разделил на три части. Первая – это та, которую он приказывал перевести в золото и драгоценные камни и хранить отдельно от денег.
– Пусть лежит на черный день, – сказал он.
Вторая часть была долларовой. И представляла из себя страхфонд.
А вот третья предназначалась для внутренних нужд. Из нее платили пенсию престарелым ворам, причем он же настоял, чтобы наиболее знатные люди преступного мира получали не менее первого секретаря обкома. Оттуда же выплачивалась мзда семьям тех, кто отбывал срок в лагерях и тюрьмах.
Этими деньгами Банкир распоряжался, но никогда их не видел, потому как расчет шел на дальних подступах к нему.
И в молельном доме, про который дотошничала Алевтина, он в самом деле бывал. Там у него были встречи с теми, кто давал отчет о каждой как поступившей, так и израсходованной копейке.
«Деньги любят, когда о них думает даже мертвый» – вот любимая его присказка, которую знали все, кто хоть краешком уха, но слышал про Банкира.
Он же на одних чистоделов, которые решили поозоровать, наложил штраф. И вот как это произошло.
В Сталинграде после реставрации должны были открыть Центральный универмаг. Ну, естественно, перед этим обо всем это растрезвонили на весь белый свет. Гостей чуть ли не со всего Советского Союза понаприглашали.
Особенно одна баба из обкома выдрючивалась. И так позировала фотографам, и этак. Деловитые нотки превратили ее голос в сплошною лавину, в напор, который вряд ли выдержит нормальная психика. И вот им-то она и давила всех, кто попадал под ее взор.
Поезд из Москвы запаздывал, потому все сгрудились возле дверей магазина и ждали, когда же наконец свершится то чудо, к которому так долго шли.
Наконец где-то далеко, словно забивая гвозди игрушечным молотком, простукал скорый.
А старый партиец, в той самой шинели, в которой брал Зимний, не сдержался. И слеза, что пала на ворс его обшлага, не расплылась, не сгинула в дебрях суровья, а высоконьким стожком стояла и держала в себе веселенькую капельку света.
Сейчас он скажет те слова, которые две недели вместе с внуком учил, чтобы произнести их перед московскими гостями.
Поезд нежно подкатил к перрону, грянул оркестр, кто-то выпустил стайку белых голубей.
Занавеска на одном окне была отпахнута и колыхалась точно так, как подбородок и живот его смеющейся тещи, нынче, конечно, покойной. И старый партиец вдруг ощутил, что намертво забыл, о чем надо говорить.
Его со всех сторон подтыривали, подбадривали, чуть ли не ширяли шилом в зад. А он стоял, улыбаясь, и молчал.
Отрезвелые чувства, конечно, подмывали немедленно уйти, даже убежать. Но бугаино-упрямая суть, на которой лепится мужское начало, словно корень вращивало его в землю.
Увидел он рядом знакомую. От ветра платье на ней ходило сгибами, порхали волосы, а лицо сурово-неподвижное: вдова.
И старый партиец произнес:
– Вот на каких бабах держится Россия!
И указал на вдову.
И все зааплодировали. И двинулись к универмагу.
А старого партийца, который тоже был увлечен в сторону всеобщего торжества, попервам казалось, забыли, и он пошел, всем подряд улыбаясь и зная, что теперь до утра будет странствовать мыслями по просторам своей обширной жизни, не подозревая, что вот эти размышления и называются бессонницей.
Ненароком вспомнит он и соседа, который, хоть и склонен к подлости, в общем-то человек невредный и компанейский. Вот это чарку как-то ему приподнес.
Он глянул на плоский фонарь, который – днем-то! – горел каким-то выпуклым светом, и произнес, как показалось, ни к кому не обращаясь:
– А магазин-то обокрали!
И тут же эта весть, словно камень в озеро, бултыхнулась в гущу народа.
– Слыхали? – доносилось то с одного, то с другого края толпы. – Откроют, a там – хоть шаром прокати, хоть телешом пробежи!
Так о том, что пытались тщательно скрыть, прознали все.
А когда позже ущучили старика, чтобы выведать, откуда ему было известно то, о чем почти никто не знал-не ведал, он ответил:
– Народ молвой богат.
А совсем прижали к стенке, сознался:
– Это из нашего полка двое его обчистили.
– Когда? – вырвалось у главного дознавателя.
– В семнадцатом году!
И дед впал в несколько лихорадочное оправдание, приставуче запричитав:
– Так вы уж не говорите, что я их выдал! Правда, фамилии до сих пор не помню. Но одного звали Иваном, а другого Ильей.
Так потому в тот день настойчиво дотошничала милиция, что кража-то, в общем, была. Вернее, даже не кража, а надсмехательство над теми, кто организовывал охрану здания, и значит, над самой милицией.
В универмаге была уставлена сигнализация, вовнутрь пущены собаки с сотрудниками милиции. Казалось бы, уж тут преступникам и делать нечего.
Ан нет! Какие-то друзья все же проникли в магазин. Побывали в главных отделах. А один из них, видимо, самый шустрый и наглый, сблочил с себя одежду и переоделся во все новое, аккуратно сложив свои брюки, рубаху, пиджак, кепку и поверх всего водрузив ботинки почти несуществующего сорок шестого размера.
Милиционеры, что были внутри, виновато помалкивали, собаки, что допустили оплошь, повизгивали, молчала, как это было и вчера, современная сигнализация.
Зато разорялся главный милиционер области. Тем более что как раз накануне открытия универмага ему, так сказать, авансом дали генерала.
Ну и конечно же ликовали воры. И только один, еще очень молодой человек пребывал в отрешенной хмурости. Им был как раз Максим Бибенин по кличке Банкир.
– Всякая глупость всегда заманчива, – сказал он. – Потому пижонство это рассчитано только на идиотов.
И он настоял, чтобы те, кто так дерзко все совершили, получили бы наказание.
– Ну и какое? – спросил тогда главный авторитет, что был на сходке.
– Их надо оштрафовать, – ответил Банкир. – Пусть от следующей кражи они отстегнут ровно столько, сколько могли бы унести в этот раз.
И Максима неожиданно поддержали.
Вот с тех-то пор и приобрел он в преступном мире авторитет не сказать что жмота, а очень рачительного хозяина воровской кассы взаимопомощи.
Сейчас, конечно, у Банкира другие заботы. Ежели честно, в былые бы времена он побрезговал брать деньги, которые не крадены, а заработаны в поте спины. Но сейчас вынужден, потому как последнее время каких-либо крупных краж совершаемо не было. И главное, не налаживалось потока – его давней мечты. Он хотел, чтобы с какого-либо завода организовать постоянную незаметную утечку чего-либо ценного, что после довольно честной продажи оказалось бы в его хранилищах казной.
Сетовал он и на то, что кара отступникам от закона стала не такой, как раньше, суровой. И получалось, что завязывали даже солидные воры. Встречали, скажем, какую-то смазливую бабенку и кидались начинать новую жизнь. А того не могли понять: яблоко, прошитое червем, даже тогда, когда он из него уползет, все равно останется подпорченным плодом и в итоге сгниет, сколь ты его ни холь.
Хорошо подправил дело Василий Шукшин своей картиной «Калина красная». Среди прочего бреда, где воры показываются глупорями и бездарями, этот хоть дал понять, что закон жив и уйти из-под его кары суждено далеко не каждому.
И вообще, Банкир все больше и больше убеждался, что воровской мир активно разъедает тяготение к собственному комфорту. Ведь раньше ни один вор в законе не позволял себе иметь что-либо лишнее и, упаси Бог, заметное. Скажем, ту же машину или цветной телевизор.
А теперь – сплошь и рядом. И даже оправдание попридумали:
– Не надо отличаться от всех.
А Банкир считает, что надо. Ибо только истинная воровская бескорыстность и честность внутри клана, способны спасти это государство в государстве.
В зоне пока порядок, а вот на свободе все идет далеко не так, как требовала бы идеальность.
То, что человек наглеет даже по независящим от него причинам, Максим испытал на себе. Стал он последнее время если не чревоугодником, то, во всяком случае, любителем вкусно поесть. И то ему та же Алевтина готовила, и это. А он, присмаковавшись к ставшему повседневным праздничному вкусу, понимает, что опять тянет к чему-то новому.
Правда, Матрена его особо ничем не баловала. У нее, как говорят, – семеро по лавкам, а один в печи чертом кричит. Не любит она, чтобы какая-либо еда от невнимания квасилась. Потому все, что готовилось, тут же подчистую съедалось. Ребятишки, не в укор им сказать, были прожорливы.
Так вот размышляя о ниточке, которая с бесконечным постоянством тянулась бы в общак, Банкир часто наталкивается мыслью на местных бракуш. Особенно на Веденея Триголоса. В прошлом по уголовной стезе он не проходил, но соблазнительно глуп во всякой увлеченности. А это как раз то, что нужно. Надо только чуть-чуть подправить его необузданность и порой выпирающую откровенную дурь.
Но это не его забота. И потому нечего мозги засорять той посторонностью, которая, может быть, никогда не перейдет в такую желанную корысть.
Чемоданов отнес в тайник то, что привез с собой Коська, вышел на тропу, что вела к Волге, «нарисовался» там, где его могли видеть и, главное, запомнить и только после этого вернулся к своему бухгалтерскому столу.
А возле него место редко пустовало. Все время кому-то и что-то надо было узнать, пересчитать и чуть ли не перелопатить. И Максим Петрович старался всем угодить, чем и расположил к себе всех, начиная от председателя и кончая последним конюхом.
Но сегодня его ждал следователь.