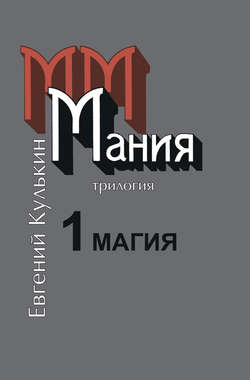Читать книгу Мания. 1. Магия, или Казенный сон - Евгений Кулькин - Страница 3
Глава первая
1
ОглавлениеПод самую святую, масляной зарей, тишком ушел от Алевтины Мяжниковой муж. Он не объяснял, почему это делает, зачем ее покидает, утелепал, и все.
Но ежели бы он, скажем, устроился к кому-либо на квартиру или – того проще – вселился бы в общагу, долго бы о нем думали, что допекла его Алевтина, и был бы он, так сказать, стороной пострадавшей от супружнического произвола.
Но ейный муж – прямиком, как сорока летает, – направился к Матрене Крикляковой – бабе взглядной, сорно любящей кого попало и на этой почве притабунившей себе четверых ребятенков.
Алевтина делала вид, что ничего такого не произошло. Гордо ходила по поселку со вскинутыми грудями и не отводила глаз, когда на нее смотрели слишком пристально.
Мужа Алевтины – теперь бывшего – звали Максимом, потому местные рифмоплеты немедленно складовину выпулили: «Ушел Максим, ну и хрен с ним!» А на фамилию супруга Мяжниковой Чемоданов полупрозой так выразились: «Она к нему со своей межой, а он – хвать пай чужой – и зачемоданил к Мотьке – бабе хотьке».
Не все у Максима Петровича ладилось и с работой. Только где по-настоящему угреется, как его обязательно под какое-нибудь сокращение подведут.
И вот что удивительно, все снятия он воспринимал спокойно. С улыбкой сдавал дела, аккуратно – в последний раз – расписывался в ведомости и отбывал к новому назначению с облегченным почтением к прежней работе, никого не виня, ни хая, не раскаиваясь в том, что так произошло.
Бухгалтером он был въедливым, как червяк, буравящий яблоко. Не было видно его усилий, хотя в любой момент каждому, кто бы ни возжелал, он приводил, сведенным как у девственницы, дебет с кредитом и этим самым давал понять, что у него все в ажуре и порядке.
И вот теперь помаркой его судьбы был только один факт, что он ушел от Алевтины к другой.
И неожиданно вспомнилось, что в свое время Максим и у Мяжниковой появился внезапно. Аккурат была мятежная весна. Но никто никого не убивал, разнузданно буйствовала природа. Сперва, задолго до того, как вскрылась река, разыгралось половодье. А в один из вечеров, когда луна еще не взошла, но уже оплодотворила край неба тихим рделым отсветом, унылый март подтвердил, как писали в газете, опасность морального кризиса. У колхозной кассы кто-то из своих, поскольку река отсекла всех прочих своим буйством, позычил почти миллион рублей.
У развязки дорог, чем-то напоминающей небрежно брошенные ножницы, первым был задержан Григорий Фельд. Он был секретарем редакции в соседнем селе и сюда наведывался к своей полюбовнице – Фроське Мамоновой, какая работала счетоводом в бухгалтерии, которая теперь, почти в полном составе, стояла на козанках.
И в общем, Гришу – цоп-царап.
При нем нашли гранки будущей газеты. Были они усыпаны козявками правок. Но денег обнаружено не было.
И по поводу своего задержания он напишет через неделю, укорив тех, кто это учинил, что вернуть достоинство так же трудно, как невозможно вернуть целомудрие давшей себя объегорить девке.
И тогда деньги, неожиданно для всех, нашел пришляк Максим Чемоданов. Обнаружил он их в лесу, ссыпанными в мешок из-под ядохимикатов, и потому всех, кто их в разное время получал, преследовал, как кто-то пошутил, «дух капитализма». Потому, когда встречались два собутыльника и один из них клялся, что у него денег нет, другой, не веря на слово, по старой памяти не облапывал его по заначкам, а принюхивался к карманам. И коли улавливал ту самую ядовитинку, которой были помечены деньги, говорил:
– А ну признавайся, куда ты их дел?
И тут же – опять по запаху – находил, в каком укромном месте они у того лежали.
А Чемоданова немедленно назначили главным бухгалтером, изгнав прежнего ротозея, тем более стало известно, что к нему давно, как кошка, ластится молодая жена председателя Клавдия, так усорившая всем глаза, что ее были готовы лепить к любому, кто появлялся на горизонте.
Сам же пред Кирилл Карпович Гнездухин был не сказать что уж очень почтительным человеком, скорее, наоборот. Сговорчивым он был с начальством, которое наведывалось сюда довольно часто по той причине, что тут пролегала, по чьему-то точному определению, «икряная жила», и всякого, кто приезжал в Волгоград из Москвы или других более высоких мест, да хоть из-за границы, везли именно сюда, чтобы тут попотчевать до отвала тем, что везде подается в величайшей скудности.
Так вот с начальством Гнездухин вел себя сносно, хотя, коли присмотреться, и вежливость в его исполнении была мерзка. Сам вроде весь извивом исходит, а глаза холодно-злые, придушенные неприязнью.
Всю жизнь Кирилл кому-нибудь завидовал. Причем зависть у него была даже невещественна, что ли. Например, он завидовал, что над соседними полями шел дождь.
– Везет же идиотам! – говорил он, почему-то все расширяя и расширяя географию своей неприязни.
Клавку он тоже обратал из-за зависти. Приехал как-то к ним в колхоз председатель из дальнего степного района, где если что в изобилии водится, так это сорняки на полях. Так вот тот самый пристаралец привез с собой жену, что была вдвое его моложе.
Засвербело у Гнездухина внутри, и как только запахнулась за гостем дверь, стал он думать, кого же ему в супружницы себе выбрать, потому как почти пять лет бобылевал, как он выражался, «просватав» свою Богом данную за «Казанский университет». Словом, пожелала она окончить аспирантуру, а после, когда пообтесалась среди нормальных людей, поняла, что жила не с тем, кто ей пара. И однажды приехала и все ему это высказала.
А Кирилл тем временем уже как-то привык к своему летучему положению: то там укусит, то тут урвет. И уже в колхозе бегало с десяток ребятишек, похожих на него.
Потому как-то все попривыкли к мысли, что – по хожалому промыслу – после колхозного бугая, председатель идет вторым.
И вот тут-то и приехал тот самый степняк и всадил ему в сердце занозу зависти. И стал Кирилл приглядываться к молодым колхозным девкам. А один раз сказал директрисе школы Агнессе Львовне:
– Ты бы меня пригласила как-нибудь с лекцией.
Директриса, конечно, знала, что у преда та лекция, что «с пэрэда», так местные хохлушки шутили, потому безошибочно поняла, что ему надо. И Клавку Сигову, когда он пришел, с последней парты пересадила на первую.
Кирилл Карпович стал рассказывать о том, как хороша жизнь в колхозе, каким он руководит, можно сказать, вдохновенно.
– Все сказы хороши, когда за ними стоит достаток. Вот это я иду по городу, а мне навстречу стая девчат. Да все такие нарядные, красивые, прямо загляденье. Присмотрелся, а это наши! Доярки с первой фермы. В полном составе в цирк ездили. Я их спрашиваю: «Ну что, может, навсегда тут останетесь? И театр рядом, и концерт под боком, и все магазины, рты разинув, на вас глядят?» А они мне в ответ: «Нет уж, хоть и Яр у нас, но Светлый. Ближе к нашему будущему». Вот так вот! Молодые, а понимают.
Точал свои речи председатель, а глаз, как и ожидала Агнесса Львовна, с Клавдии Сиговой не сводил. И когда лекция в его исполнении была закончена, напрямик спросил:
– Сколько ей еще учиться?
– Да вообще-то она у нас вечная второгодница, – на всякий случай предупредила директриса, дабы дать возможность возгоревшемуся жениху понять, что станет полной противоположностью его прежней, ученой жены. – Но коли постараться, можно ее и в этом году выпустить.
– Ну давай, – одобрил ускорение председатель и ввернул явно откуда-то вычитанное: – Пора пожить в согласии с собой!
А осенью он, как и полагалось в старину, заслал сватов. И главным из них был его новый бухгалтер Степан Шарый. И послал его туда лишь только потому, что тот был парнем высоким, статным, не таким корявым, как сам жених. С ним в паре шел главный добытчик икры Веденей Триголос. В армии он служил водолазом, потому не боялся ни глуби, ни холода. В любое время года добывал осетров в нужном количестве.
Пришли эти двое к Сиговым, дарами родителей осыпали, невесту словами, припасенными на этот случай, заморочили и чуть было все дело не сорвали.
Степан такую прибаутину выпулил:
Наш жених настолько лих,
Не останьтесь при своих!
– Ну а кто из вас тот самый сокол? – спросил старый Сиг.
– Да вон, – указали они, – на пригорке из грязи винегрет вымешивает!
Как увидел его отец, и уперся рогами в землю.
– В позор хотите ввести? – взревел. – Он же на десять лет меня старше. А я ему – дочь…
Но тут жена вошла.
– Сигай не сигай, – сказала, – а дочку отдай! Ведь он нам житья не даст.
Так Клавка стала председательшей.
В правлении придумал он ей дипломатическую должность – стала она быть привечательницей, что ли. Всех, кто приезжал, своим вниманием потчевать. Сперва у нее это не очень получалось, потом поднаторела. И порой муж, возражающим жестом остановив ее красноречь, говорил:
– Ты уж там не переугождай. Чтобы я за простака не сошел.
А однажды он заметил возле нее ее одноклассника – пучеглазого пацана, который, кажется, еще вчера сопли грабаркой отчерпывал. И вот идут они, как пьяные, из стороны в сторону покачиваются. То он к ней прильнуть норовит, она, отдавленная этим порывом, в сторону уклонится, то она вроде бы ненароком к его плечу голову уронит.
А за ними – из машины – зорко следит Кирилл Карпович. И не ревность в его душе коренья сплетает, а что-то более буйное, близкое к помешательству. Вот сейчас, решает он, ежели она еще раз к нему похилится, сшибет он их обоих своим «козлом», чтобы на этом позор и иссяк.
Выпростал он руку из перчатки, опустил ее на землю, льдинку с дороги подцепил, чтобы хоть ею, но охладить жар, которым весь пышел. Понянчил сразу уменьшившуюся на его ладони льдинку. И вдруг увидел, как Клавка со всего маху звездорезнула пацанишку по уху. А вприбавок к подзатыльнику дала еще и пендаля – толкотно подфутболила под зад.
И только тогда Гнездухин расслабился. Мокрой рукой вытер себе лицо и подумал, что, видимо, унижаемая не столько позорными словами, но и жестами, которыми пацан их сопровождал, и «отоварила» она его по первое число.
И он почти блаженно улыбнулся, произнеся вслух:
– Вот так у нас: досыта и – без объявления войны!
Больше всего на свете Гнездухина пугали две вещи – измена жены и бессмысленность дела, которому он если не отдал жизнь, то отрядил свои лучшие, лишенные беспамятства годы.
Ведь только последнее время, после бегства первой жены, он сколько-то встрепенулся и преобразил как самого себя, так и все, что его окружало, во что-то добропорядочное и даже стильное. А то у него был самый унылый двор, унылые ставни на окнах домишки, унылая одежда, и даже пища, которую он содержал для повседневного потребления, была унылой.
Его не радовало, что иногда Бог давал урожая, и на груди взблескивала очередная награда. Так, чуть-чуть какое-то шевеление в душе обозначалось, и – не более.
Но однажды – с делегацией – побывал он на Кубани. И там в одном зачуханном колхозишке увидел – кто бы мог подумать! – полновесный, как в городе, оркестр. Оркестр тот был разномастным. И не только по белесости или чернявости музыкантов, по непохожести их лиц, но и инструменты отличались друг от друга именно цветом. Альтовая труба была никелированной, бас, как и полагается, отливал солидной медью, а вот тенор, так тот был в защитной одежке, словно, коль его от нее освободить, любой мог о него попортить зрение.
Среди музыкантов особой ухваткой отличался Гера Клек – чернявенький, плюгавого вида горбоносик, который все время был на виду, как будто на обметанную воробьями ветлицу кто-то в одно и то же место тонкой струйкой лил кипяток. И тот полошил именно этого куцего воробьенка.
Гера то колотил в тугой – с раструбами – барабан, то добавочно подгуживал на какой-то недоразвитой трубешке, а иной раз принимался дуть в свирель, а то ухал в утробину, и создавалось впечатление, что в теснинах леса, который, кстати, был рядом, припадочно заходится голосом филин.
Услыхал Гнездухин тот оркестр, увидал вихлеватого Герку, и душа у него сразу же разболелась. Именно этого не хватает ему до полной вольготы. Приедет вот так патентованное начальство, а он ему – какой-нибудь маршишко или вальсон заделает, что у того слюни со слезами смешаются. Тогда и проси что хочешь – не откажет.
Потому водил его председатель по мастерским, по коровникам и птичникам, даже мини-завод показал, а у Кирилла Карповича – одна думка, как же про оркестр выведать да Герку перемануть.
И на откормочном базу, где евшие, а может, только обгубливавшие, початки, коровы, сполошенно дрогнули и взметнули вверх рога, увидев посторонних, и задал Гнездухин преду такой вопрос:
– Не накладно оркестр-то держать?
– А чего, – словоохотливо ответил тот. – Он себя, считай, окупает.
– Каким же образом?
– А жмурики, они, брат, череды не знают, мрут себе потихоньку. И родичам, конечно, хочется познатней их в землю спровадить. И вот бегут ко мне: «Дай оркестришко!» К другому бы обратились, да лабухи-то только у меня.
Тогда Гнездухин впервые услышал, что музыкантов, помимо всего прочего, зовут и «лабухами».
– Ну и я – похоронителям – счет, – продолжил председатель. – Все законно и по совести. И вот так – и ни на ноту иначе.
Целую ночь провел тогда в бессонье Кирилл Карпович. А утром – с ранья – вышел на баз – помокрело. Нет, дождь не шел, и тумана не было в помине. Это упала такая густая, шубой покрывшая траву роса.
Смотрит, народ коров на выгон торопит. Ну и он туда себя застремил. Может, там Герку увидит и без свидетелей переговорит с ним. Авось, клюнет он на вольную икру и на шалую игру.
И не ошибся. Вернее, наоборот, ошибся. Герки на выгоне не было. Он встретил его, когда в обратный путь оттуда ринулся. Глядит, а тот – во дворишке – с плетешком с вершок – на голове стоит.
Подумал: довольно странная причина с утра голову к земле примерять. Это обычно вечером случается, когда – от перебору – ее грохнутся тянет. А тут – ни свет ни заря, а он уже на взводе и в прострации.
Остановился у того дворишки Гнездухин, глядит, как Герка вверхторманно на него почти не мигая пялится, и спрашивает:
– Это что, тоже музыкальное упражнение?
Герка – в один мах – поменял позу и, как все грешные на этой земле, оказался на ногах.
– У нас, – сказал, – сперва о «здрасьте» лоб бьют, а потом о здоровье спрашивают.
– Привет! – протянул ему Гнездухин руку.
Тот пожал ее холодной липкостью своих пальцев.
– Вопрос к тебе имею, – как можно солиднее начал Кирилл Карпович.
– Вопрос – не понос, можно и в себе удержать, – быстро ответил Герка, уже осуеченный какой-то своей новой заботой.
И точно. На этот раз он вздрючил вверх ногу и положил ее на плечо Гнездухина.
– Так что за вопрос? – поинтересовался.
– Дудки, в какие ты свою утробу выворачиваешь, дорого стоют?
– Что? Завидки взяли? – вместо ответа, полюбопытствовал лабух.
– Не сказать что совсем, но в каком-то смысле да.
– Это у нас не инструменты, а шваль лежалая! Трубу взяли из Дома пионеров, – стал загибать пальцы Герка, – альт – у пенсионеров. Нет, ты не подумай, что у нас где-то еще оркестр в районе есть. Все то бросовое, то дареное, то украденное.
– Неужто барабан где позычил? – спросил Гнездухин.
– Именно его в соседнем районе украсть пришлось. Ведь на всю округу никто и ноты обронить не умеет. Я тут специалист один-разъединственный и, можно сказать, неповторимый.
– Это ты правду говоришь, – подхватил Кирилл Карпович, поняв, что Герка не прочь прихвастнуть. – Я вчера поглядел на тебя и сразу определил – знатный ты лабух!
И, стараясь не сбиться со взятого им тона, Гнездухин продолжил:
– Потому мысль мне стопу жать стала…
Герка хмыкнул.
– А ты хоть и степняк, а юморист!
– У нас все такие! – гордо ответил Кирилл Карпович. – Потому как рядом крупность огромадная находится. А разве возле нее можно быть мельче, чем есть?
– Что за крупность? – поинтересовался Герка, поменяв на плече Гнездухина ноги.
– Волга! Ух и широченная она у нас! Ежели тойный берег и виден, только в бинокль!
Захохотал Герка так, что нога чуть не свалилась с плеча преда.
– А ты знаешь, – произнес, – я коренной камышанин!
– Да не может быть! – Гнездухин сбросил ногу лабуха и кинулся его обнимать. – Земляк, стало быть! Так вот я тебе как своему человеку говорю: «Езжай ко мне в Светлый Яр! Я такие тебе трубы куплю, что губы на них свести будет боязно. У меня, – Гнездухина явно несло, – все есть! И икра, и просто осетры в любом варианте, что балык, что ребра в сметане. А девки у нас!..
Они зашли в домишко, в котором жил Герка, и Кирилл Карпович продолжил:
– Особняк тебе построю! Вечный! В нем, ежели ты, не дай, конечно, Бог, похарчишься, музей твоего имени заделаем.
– Ну и брехун ты! – завосхищался Герка. – Думаешь, наш пред мне меньше обещал? А хоромы, вишь, из соломы?
– Но я не такой! Ежели на то пошло, в свой дом поселю! В председательский!
Он отник от смеющегося лабуха и спросил:
– Ну чего, земеля, будешь думать или сразу согласишься?
– Ты вот чего скажи, – неожиданно обратился к нему Герка, – сколь на своем веку девок перепортил?
– Ни одной! – заученно, как на бюро, ответил пред.
– Не может быть! Уж больно ты красочно врешь да завлекаешь, тут у любой ноги бы в раскорячку пошли. А тебе я хочу сказать честно и благородно: не могу я в те края объявляться.
– По какой же причине-то?
– Да по простой. Я, как пишут в казенных документах, злостный неплательщик алиментов. Потому я туда – хоп, а меня там – цоп! За задницу и выше! И не столько подую я у вас, сколько попляшу. А тут все думают, что я постоялец-нестоялец. А у меня, веришь, грех сказать, как к бабе прикоснусь, так она в брюхатость кидается.
– Ну и сколько у тебя жен-то было? – участливо поинтересовался Гнездухин.
– Шесть, – не стал, видно, врать лабух.
– И у всех приплодок?
– Конечно! Потому я тут, «во глубине сибирских руд», и томлю свою душу.
Повздыхал Кирилл Карпович, даже пару раз охнул. Уж больно с мечтой расставаться было неохота. Красиво хотел обставить свою жизнь, весело. И вот – на же тебе!
– А можа… – начал было он, потом осек себя сам. – Да чего об этом мечтать? Шестеро даже не трое.
– Кого шестеро? – спросил лабух.
– Ну детей.
– Каких там шестеро? У меня у одной – трое, у трех – по двое. И только у двух по одному. Целый детсад. Говорю, как попритулюсь, так – лабец в капкане!
Он порылся в какой-то линялой шкатулке и достал оттуда газетную вырезку.
– Оказывается, – произнес, – в многодетстве виновата не женщина, а мужчина.
И прочитал, что у одного крестьянина в прошлом веке от двух браков было восемьдесят три ребенка. У одной жены, которая почти что всякий раз приносила по четверне, от него зачалось шестьдесят девять детей.
– Вот, видимо, и я такой же, – с горечью заметил Герка. – Из той же породы. Бошка – в дрючок, а он – в сучок.
За бутылкой, которую лабух поставил на стол, погоревали оба. Герка, что приходится лытать от своего косого десятка, а Гнездухин, что сколь он их ни шмурыгал, ни у одной ничего не завязалось. И Клавдия тоже в яловости взбрыкивает.
Вспомнил про жену, и ревность стала под хрешками поигрывать. Уж не попался ли ей такой же ухватистый, как лабух, матерец, который в его отсутствие заделает какого-нибудь красавца и будет потом улыбаться ему вдогон, когда увидит его со своим выводком. Потому его печать – это когда на бумаге одна чистота остается.
И, видимо, эта мысль и подторопила Гнездухина скорее воротиться домой, оставив, как он считал, до поры, мысль об оркестре.
– А капельмейстера, – пообещал Герка, – я тебе найду. Не равноценного мне, но вполне сносного. Потому покупай дудки и, как говорили в старину, вперед рулюй, а через плечо плюй!
Возвернулся Гнездухин домой, поехал в Волгоград, глянул на цены, в которых пребывали те самые «медные» трубы, и «жор» на нет у него сошел.
– Вот ежели бы шефов найти, чтобы оркестром одарили, – сказал он как-то на заседании правления. На что Алевтина Мяжникова сказала:
– Держи карман шире, чтобы мимо не проехали! Сейчас каждый норовит с колхоза урвать, вроде тут все несчитаное и немереное.
Но преда неожиданно поддержал главный бухгалтер.
– А вы знаете, – сказал. – Это мысль! Просто надо хорошо поработать в данном направлении.
И, повыпроводив всех, Гнездухин с Чемодановым остались, как в правлении шутили, на служебный перешепт.
Чем он закончился, никто не знает. Только Кирилл Карпович вышел из своего кабинета таким довольным, словно не только привез из командировки трубы, но и захватил в придачу к ним и самого лытателя-лабуха.