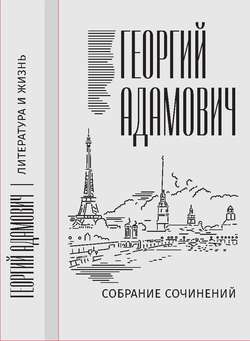Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
Тютчев по-французски
Оглавление«Переводчик в прозе – раб, в стихах – соперник». Изречение Жуковского еще в первой половине прошлого столетия стало программным и дало обоснование нашей литературной традиции – переводить стихи стихами. Но, вероятно, каждый, кому приходилось думать о стихотворных переводах, а тем более работать над ними, испытывал сомнение: не безнадежно ли «соперничество» и не приводит ли оно в лучшем случае к тому, что возникает новое русское стихотворение, может быть и превосходное, однако лишь напоминающее образец? По существу поэзия непереводима, т. к. передавая логическое содержание строки, переводчик лишь в редчайших, исключительных случаях может передать и ее звучание, – а ведь если в стихах важен был бы только логический смысл, не стоило бы их и писать.
Тургенев когда-то читал Флоберу пушкинское восьмистишие «Я вас любил, любовь еще, быть может…», тут же переводя его и стараясь убедить, как оно хорошо – на что Флобер только разводил руками: «mais il est plat, votre poète!» – и по-своему был прав. В этих строках, по-пушкински сдержанных и чистых, смысл углублен и возвеличен ритмом, интонацией, особенно в конце, где непереводимое «как дай вам Бог» в самом замедлении своем явственно вскрывает истинную тему стихотворения, т. е. колебания поэта, сомнение его, действительно ли прошлое стало полностью прошлым, нет ли еще в «любил» и какой-то доли «люблю».
Тургенев, разумеется, переводил прозой. Если бы он попытался перевести стихами, результат был бы, несомненно, еще хуже: получился бы банальнейший мадригал. В прозе, по крайней мере, смысловая оболочка текста не была извращена.
Тютчев по-французски… Я раскрыл небольшую книжку, составленную знаменитым славистом проф. Андре Мазоном и Николаем Оцупом с некоторым страхом: неужели перевод в стихах? Сразу одна за другой в памяти промелькнули отдельные, волшебные тютчевские строки, – неужели можно было, даже при безупречном мастерстве, переложить их в другие стихотворные строки? Нет, слава Богу, перевод сделан прозой! Очарование оригинального текста исчезло, но, по крайней мере, не произошло подмены его текстом будто бы «адекватным».
Заранее можно было быть уверенным, что Тютчев лучше выдержит переводную операцию, чем Пушкин, и даже первоначальный, беглый просмотр книги это подтвердил. Не буду сравнивать одного великого поэта с другим, не буду решать, кто «выше», кто «лучше»: думаю, что досадная, хоть и неискоренимая в людях склонность к таким сравнениям наиболее правильно разрешается в процессе чтения. Когда читаешь Пушкина, неизменно говоришь себе: нет, конечно, он – первый из первых! При чтении Тютчева впечатление такое же: кто же другой писал у нас подобные стихи? А Лермонтов, с его как бы случайными, гениальными проблесками, с такими строками, как «ночь тиха, пустыня внемлет Богу…», строками, о которых Розанов, помнится, удивительно верно и неожиданно сказал, что это будто эпитафия над древним Египтом и его спящей в пустыне, загадочной цивилизацией? А Некрасов, неровный, то падающий, то взлетающий, но во взлетах неотразимый, «не поэт, а океан»? Нет, воздержимся от сравнений, от сравнительных оценок, – к чему они?
Если от Тютчева в переводе остается больше, чем от Пушкина, то единственно потому, что мысль и чувство у него не окончательно растворены в звуках, не полностью слиты с ними и способны жить самостоятельной жизнью. Конечно, Тютчев, при стихотворной технике еще более изощренной, чем техника пушкинская, все же менее совершенен, – именно потому, что его поэзию отчетливее и легче можно разложить на составные элементы. А перевод ведь и начинается с разложения. От Пушкина, в особенности от лирики его, в переводе не остается почти ничего, ибо его поэзия живет лишь как явление целостное, органическое, от Тютчева же остаются отдельные мысли, отдельные образы, способные произвести должное впечатление и вне целого, независимо от словесной оболочки. Приблизительно то же можно было бы сказать о Гёте, а в качестве примера поэзии непереводимой назвать Расина.
Проф. Мазон в коротком предисловии к сборнику указал, что выбор стихов он предоставил Оцупу, как «поэту и глубокому знатоку Тютчева». Оцупу принадлежит и содержательное, интересное не только для французского, но и для русского читателя введение, и примечания к тексту.
Несколько слов о выборе стихов. Оцуп разбил сборник на отделы и во введении объяснил, что предпочел сгруппировать стихи по их основным мотивам, – природа, любовь, история и так далее, – а не руководиться хронологией. Ограниченность места заставила его в каждом отделе сделать значительные пропуски, и особенно пострадали при этом политические стихи Тютчева. Оценивает их Оцуп довольно сурово, утверждая даже, что между ними и подлинно тютчевскими созданиями такая же пропасть, как между «Дневником писателя» и художественным творчеством Достоевского. Мнение это распространено и, хотя я лично не могу с ним согласиться, возражать нет оснований. Да и пришлось бы для убедительности возражения сделать цитаты, привести примеры, развить некоторые соображения, т. е. превратить газетную статью в статью специальную и выйти за приемлемые для нее размеры и даже характер. Но есть пропуск, который меня поразил: в отделе, посвященном природе, отсутствует один из чудеснейших тютчевских шедевров:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный…
Конечно, «о вкусах не спорят: – (хотя Бунин правильно говорил: «только о вкусах и спорят»), – но я слишком хорошо знаю Оцупа, знаю его литературное чутье, его острый слух к стихам, чтобы допустить недооценку таких строк. Случайность, рассеянность? По-видимому, то или другое. Кстати, эта «Осень» могла бы дать в примечаниях повод к любопытному и до сих пор никем еще не сделанному указанию.
Тютчев, как известно, был широко образованным человеком и, в частности, усердным читателем французских классиков. Давно уже было отмечено, – и Оцуп об этом напоминает, – что его знаменитое уподобление человека «мыслящему тростнику» заимствовано у Паскаля. Но день «как бы хрустальный», восхищавший Брюсова, считался его личной находкой… Между тем в одном из писем мадам де Севинье есть такие слова: – «les journées de cristal du début de l’automne». Едва ли можно сомневаться, что этот образ Тютчев у нее взял, едва ли можно счесть более правдоподобным простое совпадение, тем более что пример с «тростником» доказывает склонность поэта к таким заимствованиям! Должен, однако, откровенно признаться, что в огромной переписке мадам де Севинье мне не удалось до сих пор, – как я ни старался, – эти «хрустальные дни» отыскать. Их приводит Сент-Бёв в одной из своих «понедельничных бесед» как образец восхитительного стиля маркизы, и у него я их и нашел. Но Сент-Бёву можно верить: он не мог ошибиться, не мог эти слова и выдумать.
Переводы, собранные в книге, принадлежат Шарлю Саломону и сделаны больше полувека тому назад. Проф. Мазон и Оцуп ограничились тем, что внесли в них некоторые поправки. Позволю себе предложить и небольшие дальнейшие изменения: почему, например, «Царь небесный» переведен «le Tsar des cieux»? Слово «tsar» имеет специфически-русский оттенок и оно едва ли в данном случае уместно, пусть речь идет именно о русских «бедных селениях». Не лучше было бы заменить его безличным «roi», как именно и переведен «царь земли» в другом стихотворении? В стихах о «поздних бледных роз дыхании», которым «декабрьский воздух разогрет», слово дыхание переведено «le parfum». Не лучше ли было бы «le souffle»? У Тютчева природа живет, розы дышат, а не только пахнут, и если дыхание превращено в аромат, исчезает неподражаемый тютчево-шеллингианский колорит этих строк.
Надеюсь, ни читатели, ни составители сборника не заподозрят меня в стремлении «придираться к мелочам». Нет, книга настолько нужная, полезная и в целом хорошо составленная, что о каких же придирках может быть речь! Но совершенства на свете нет, а в работе над Тютчевым дополнения, изменения и поправки возможны без конца. Разумеется, в прозаическом переводе все то, что составляет магию стиха, должно быть обойдено и опущено, иного и требовать нельзя! Однако в стихотворении «Проезжая через Ковно», где Тютчев поистине магически переставляет слова в двух относящихся к Наполеону строках, – сначала «своими чудными очами», затем «очами чудными своими», – не следовало ли бы сделать перестановку, грамматически вполне допустимую и в переводе? Худо ли, хорошо, кое-что от оригинального текста, слабый отблеск его был бы все-таки сохранен.
Мелочи? Да, конечно, мелочи. Но при невозможности в прозаическом переводе воспроизвести ритм, стилистическая верность тексту приобретает особое значение. Я ограничился двумя-тремя указаниями или предложениями почти что наудачу. Можно было бы сделать их и много больше.
Для французского читателя, в особенности для студентов, изучающих русскую литературу, – а сборник, по-видимому, на них главным образом и рассчитан, – необходимо было указать ударения. При расстановке их допустимы два принципа: ударения общие, как в прозе, причем в таком случае на словах односложных никаких отметок не требуется, или ударения, указывающие, как должны быть произнесены стихи (в сборнике дан и русский текст). Оцуп, по-видимому, склоняется ко второму принципу, хотя и не без колебаний. Иногда он в односложных словах ударение ставит, и ставит совершенно правильно, – как, например, на слове «нет» в строке «нет, никому еще не удавалось». Иногда поступает иначе, – например, в строке «Так. Но прощаясь с римской славой…», где на «так» никакого значка не ставит, хотя без остановки, без «акцента» на этом «так» строку прочесть нельзя! Или «Бой невозможный, труд напрасный…»: на «бой» значка нет. Колебания, впрочем, вполне понятны.
У Тютчева больше чем у кого-либо другого из наших поэтов школьные схемы – ямб, хорей и другие – обнаруживают свою несостоятельность (или, по крайней мере, свою грубую приблизительность), и насчет того, как следует его стихи читать, порой возможны разногласия. Тютчев склонен к стилю восклицательному гораздо больше, чем сравнительно спокойный Пушкин. Одна из любимых его словесных форм – восклицание «о, как», постоянно у него повторяющееся. Где здесь ударение, на «о» или на «как»? По-моему, скорей на «как», но можно сделать его и на «о», ломая ямб. Или в дактиле: «слезы людские, о, слезы людские» – нужна ли остановка, нужно ли повышение голоса на «о»? Повторяю, колебания естественны, неизбежны, именно потому, что тютчевская стихотворная манера со схемами не считается и в них не укладывается.
Под конец мне трудно удержаться от общего замечания, пусть к французскому переводу оно и не относится. Пожалуй, это не замечание, а тоже восклицание: какие стихи, сколько в этих стихах ума и неистощимо-щедрой сердечной энергии, какой поэт! Недаром Лев Толстой сказал, притом сказал в те годы, когда этого не говорил еще никто: «без Тютчева нельзя жить». Во введении своем Оцуп указывает, что первым о величии Тютчева заговорил Некрасов. Это если и верно, то с оговоркой, – потому что некрасовская оценка была все-таки сдержанна и отводила Тютчеву место среди поэтов «второстепенных». Слово «великий» было, если не ошибаюсь, впервые употреблено Достоевским, в одном из его последних писем: «Покойник Ф.И. Тютчев, наш великий поэт…». Тогда это должно было казаться преувеличением, тем более что Достоевский вспомнил Тютчева как своего поклонника, ставившего «Преступление и наказание» выше «Отверженных» Виктора Гюго. Но теперь об этом нет и не может быть споров.
Если сборник проф. Мазона и Николая Оцупа поможет французам уловить и почувствовать хотя бы часть того, что в тютчевские стихи вложено, молодые французские читатели должны бы понять, что Россия передала им одно из своих сокровищ.