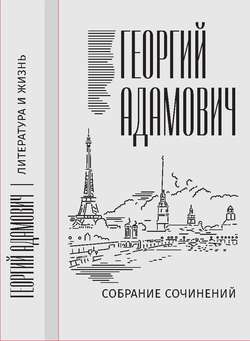Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
«Марьянка» Рассказы Леонида Зурова
ОглавлениеСреди писателей, сложившихся в эмиграции, нет ни одного, который постояннее и сильней помнил бы о России, чем Леонид Зуров. «Память сердца», можно было бы определить его отношение к России словами поэта, т. е. память самая верная. Вне России, вне русских тем, русской природы, русских исторических несчастий и передряг творчество Зурова нельзя себе представить. Иным воздухом он, как художник, не мог бы, кажется, и дышать.
Зуров пишет уже давно, лет тридцать или немногим меньше. Его знают и ценят. Но, очевидно, не только книги «имеют свою судьбу», – по Горацию, меланхолически процитированному Пушкиным в связи с тем, что «Полтава» «не имела успеха», – а и писатели. Первая повесть Зурова «Кадет» обратила на него общее внимание, – отчасти благодаря Бунину, судье строгому, сразу признавшему в юном авторе выдающееся дарование. Зуров, как говорится, вошел в литературу. Однако мало-помалу вокруг него образовался некий холодок, и так как слишком долго было бы объяснять и анализировать, чем холодок этот мог быть вызван, ограничусь лишь «констатированием» факта, досадного и несправедливого, и перейду к только что вышедшему сборнику зуровских рассказов «Марьянка».
Это – книга, которая должна бы вызвать длительный отклик, должна бы возбудить – особенно в эмиграции – внимание и даже волнение. Глубокая, неподдельная ее «русскость», ничего не имеющая общего с дешевым историческим маскарадом или слезливой слащавостью, очевидна с первых же страниц. Что скрывать, мы начинаем здесь забывать Россию. Обосновавшись более или менее прочно на Западе, мы обогатились здесь иными впечатлениями и свыклись с иным бытом. Я вовсе не какую-либо «денационализацию» имею в виду: «денационализация», если заметна, то преимущественно среди молодежи, притом зеленой. Нет, в разговорах Россия упоминается постоянно, и даже надежды на возвращение в родные места, при изменившихся порядках, едва ли ослабели. Но то, что можно бы назвать «чувством России» и что трудно без усилия в течение долгих лет хранить, – т. е. не только верность особому духу и строю русской культуры, не только нечто бесплотное, отвлеченное, а и чувство русской жизни и природы, русских красок, оттенков, бытовых черт, шорохов, звуков, того, что, по Тютчеву, «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный», наконец, «несравненного благоухания России», как, если не ошибаюсь, сказано где-то у Бориса Зайцева, – это улетучивается, исчезает или искажается.
Книга Зурова восстанавливает и напоминает далекие, начавшие тускнеть и бледнеть картины. То волнение, которое, вероятно, испытает каждый русский ее читатель, возникает благодаря самым темам книги и правдивому авторскому подходу к ним. Рассказы в большинстве случаев совсем короткие, порой даже без всякого внешнего действия. Но это обрывки и осколки огромного исторического действия, всколыхнувшего Россию в наш век, и писатель с чудесной непосредственностью дает эту связь почувствовать.
Природа и история. Обыкновенно они, в качестве творческих мотивов, друг друга исключают. Для Зурова ни глубокая, седая русская старина, ни революция неотделимы от пейзажа, нерасторжимы с ним, – и характерно, между прочим, что он гораздо чаще, и с более заразительным увлечением рисует пейзаж зимний, чем лето или весну. Критик-фрейдист из этого наблюдения сделал бы, пожалуй, выводы неожиданные, касающиеся авторского сознания, его «зимнего» отношения к бытию (у Герцена, самого парадоксального и одного из самых удивительных по словесной находчивости русских стилистов, есть фраза о «зимних глазах» Николая Первого). Предпочитаю предположение более простое: зима, в русском ее великолепном и величественном обличье, – то, чего нет на Западе, кроме, может быть, стран скандинавских, и писатель-эмигрант, безотчетно для самого себя, с особой настойчивостью вспоминает то, чего здесь ему недостает. Думаю, что это именно так. А умение Зурова найти для русской зимы образы и эпитеты, в которых с почти физической реальностью запечатлена январская стужа или синеватый блеск крепкого, улежавшегося снега, принадлежит, конечно, к личным свойствам и достоинствам его дарования.
Остановимся для примера на рассказе «Дозор», рассказе сравнительно длинном: не потому чтобы он был решительно лучше других, а потому что в нем история с природой сплелись особенно тесно. Излагать его фабулу «своими словами» было бы делом пустым и никчемным: этот прием или, вернее, эта операция, к сожалению, прочно утвердившаяся в критически-рецензентском обиходе, не дает ровно ничего. Толстой по этому поводу хорошо сказал: «Если смысл художественного произведения можно передать иными словами, незачем было писать художественное произведение». Постараюсь лишь дать понятие о содержании и общем характере рассказа.
Назимов, молодой офицер, возвращается с развалившегося фронта в родное имение. Знакомых мест он не узнает: все, что казалось близким, приветливым, дорогим, все стало чуждым и враждебным. Крестьяне грабят соседние усадьбы. Один мужик, впрочем, вызволил Назимова из беды, когда по дороге того арестовали. Нужен был поручитель, кто-нибудь, кто заявил бы, что знает Назимова, а собравшийся в школе народ молчал.
«Я за него поручаюсь», – неожиданно сказал маленький мужик в лаптях, которого Назимов никогда в жизни не видел.
Ему тогда выписали пропуск и отпустили. Он уходил, был в сенях, когда его сзади кто-то окликнул:
– Постой-ка, постой!
Он оглянулся, не зная, что думать, но его нагнал тот же мужик, в лаптях, оборах, рваном, плохо чиненном полушубке, криво надетой шапке, радостно всклокоченный, но не пьяный, а счастливый – как теперь понял он – тем, что они сами самостоятельно решали и заседали. Догнав, он протянул ему руку, а потом, улыбнувшись, сказал ему на прощание, при всей своей бедности и худобе:
– Ну, вали, вали, с Господом Богом!
Однако спустя несколько дней тот же мужик в компании с другими явился к Назимовым грабить их. Надо уезжать. Надо уговорить отца и мать все бросить, спасая самую жизнь. Назимов недоумевает: «За что, за какие грехи? Какое страшное за нами наследство?.. Тяжело и мучительно жить, трудно верить, что нет больше пощады. Ему казалось, что за эти годы он потерял все, и любовь, и радость, изгнанный из детского рая… А что там, на широких, ведущих к Петербургу дорогах? Там скрипят, как в снежных, прокаленных морозом степях, отступая, обозы, голоса солдат, что возвращаются с фронта, будят баб по ночам, кто-то, дойдя до дома в солдатской шинели, стучит в окошко избы, и босая мать испуганно спускает ноги с постели. Там на востоке Бог знает что происходит в эту морозную ночь. Глухо и враждебно живет земля, наполненная страхом и смертью… Там – посты по реке, чужой народ, пришедший издалека, солдаты в белых до пят бараньих шубах с поднятыми воротниками, смотрят в эту сторону, мерзнут, слушая русскую ночь».
Надо уехать, бежать ночью, втайне от всех. «Мать ждала его у завязанных узлов, закутанная по-дорожному в платок и шубу.
– Тихо ли? – спросила она.
– Славу Богу, все тихо.
Он хотел снимать иконы. Мать сказала:
– Погоди, Саша, надо в доме последний раз помолиться.
Он посмотрел на отца. Большой и послушный, одетый матерью, запоясанный, отец был в красном мужицком тулупе. Около узлов лежали ружья.
Мать долго крестилась, а когда кончила молиться и повернулась к мужу, лицо ее было мокро от слез.
– Душа, а душа, – сказала она, – что же это?
И они, схватившись в охапку, как дети, заплакали».
Что же это? За что? – безответные эти вопросы возникают и в сознании автора, а не только в сознании его героев. Ничего гневно-мстительного, звучащего, скажем, у Шмелева, в писаниях Зурова нет. Он, вероятно, скорей сказал бы, что все виноваты во всем, что ничего исторически-беспричинного и ничем не объяснимого в случившемся не было. Но отдельные люди, каждый из которых несет лишь ничтожную, стомиллионную долю общей ответственности, отдельные люди страдают все-таки безвинно, и никакими ссылками на летящие при рубке леса «щепки» оправдать этого нельзя. За что? Вопрос остается, вопрос повисает в воздухе вечным укором судьбе, и не чувствуют, не понимают этого лишь те, кто заменил живое представление о существовании статистическими его схемами. Впрочем, это вопрос древний, как мир, поистине «проклятый» и неразрешимый. Скажу, кстати, что один из самых зияющих, самых роковых пробелов советской литературы именно в том, что она, вся на крови выросшая, этого вопроса или не видит, или невозмутимо его обходит.
В книге Зурова далеко не все рассказы так трагичны, как «Дозор». В ней много лиризма, есть в ней и юмор, есть, наконец, то, что трудно было бы одним словом определить, но что заставляет иногда отложить книгу, задуматься, пожалуй замечтаться, унестись мыслью далеко-далеко, особенно сидя в парижской квартире, с уличным грохотом и автомобильными гудками внизу, – «Гуси-лебеди», например. Как все в этом коротеньком очерке хорошо, какая в нем свежесть и прелесть! Случайно ли то, что он помещен в сборнике последним? Автор как будто хотел внушить, что бытие и время в своей «всепоглощающей и миротворной бездне» растворяют все, что могло смущать и мучить, и с неустанным постоянством восстанавливают мир в его первозданной чистоте. «Так было, так будет». Россия была и будет. Кто хотел бы это чувство, эту уверенность в памяти освежить, должен книгу Зурова прочесть.