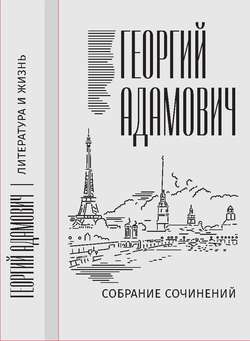Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
«Новый журнал». Книги 49 и 50
ОглавлениеВ двух последних книжках «Нового журнала» очень много интересного и ценного. Настолько много, что если бы остановиться на каждом рассказе или повести, каждом стихотворении, каждой статье, то или отзыв о журнале непомерно растянулся бы, или пришлось бы сказать всего несколько слов о вещах, над которыми автор думал, может быть, в течение целого года. Замечу мимоходом, что именно это, т. е. пропасть между обычным, пусть нередко и вынужденным критическим верхоглядством и духовной энергией, затраченной автором, – больше всего и смущает в газетных или журнальных рецензиях. Иной автор, случается, всего себя вложил в свое произведение, сомневался, колебался, мучился, изменял, перечеркивал, рассчитывая на внимание, на ответную вдумчивость и усердие: является критик, «пробегает» книгу и в полчаса решает, что автору удалось, что не удалось и чего вообще книга стоит. Не помню, кто написал о «Войне и мире», сразу по выходе романа, что в нем «бездарно все, начиная с названия». Это должно бы служить вечным уроком для критиков: не торопитесь с приговорами, не ставьте второпях писателям отметки, как школьникам, подумайте о той отметке, которую со временем поставят вам самим.
Повторяю, в двух книжках «Нового журнала» очень много интересного. Но, не имея возможности сколько-нибудь обстоятельно высказаться обо всем, что в них включено, предпочитаю остановиться только на двух-трех больших вещах, и стихов, например, не касаться вовсе. Есть в журнале стихи превосходные, есть и другие, скорей неуклюжие, сероватые. Но в подтверждение оценки нужен был бы целый ряд «придаточных предложений», – как в таких случаях говорил Гумилев, не допускавший отзывов восклицательных, всегда настаивавший на необходимости объяснения и мотивировки в разборе поэзии. Если ограничиться замечанием «хорошо» или «слабо», можно, пожалуй, вызвать у читателя возражение: вам нравится, а мне не нравится, – или наоборот. И ведь читатель будет совершенно прав! Ему нужны не голословные заявления, ему нужно содействие в отношении к читаемому, даже если с критиком он ни в одном слове и не согласится.
«Трудные дороги» Г. Андреева, печатавшиеся в четырех книжках «Нового журнала», наконец закончены. Что в этом длинном повествовании о лагерях, тюрьмах и побегах в советской России фактически точно, какие подробности придуманы, нам неизвестно. Но общая, основная правдивость рассказа очевидна, она не подлежит сомнению, она чувствуется в каждой строчке, с первой страницы до последней, и думаю, никто не читал, никто не прочтет этих записок без волнения. Андреев не сгущает красок, не увлекается изображением ужасов, он вспоминает о них скорей с недоумением, будто сам себя спрашивая, как эти ужасы могли в России возникнуть, среди русского народа, который пусть и не «богоносец», но все-таки народ не злой, склонный – нам казалось – к состраданию и милосердию. Многие, вероятно, воспримут это недоумение, как свое собственное. В первые годы революции многие разводили руками и в растерянности спрашивали себя: как возможно это в России, в «нашей» России? Неужели мы обольщались, обманывали себя и других? У Андреева в последних главах «Трудных дорог» на эту тему беседуют заключенные, среди которых есть, конечно, и «смертники»: священник, инженер, учитель, молодой московский поэт-мечтатель. Одни бранятся, только и всего, другие философствуют, надеются, ждут лучших дней, если не для себя лично, то для родной страны. Сектант-украинец Твердохлеб негодует на тех, кто «хочет устроить по книжкам жизнь». Он мог бы войти в портретную галерею «Записок из Мертвого дома», для него всякий образованный человек – враг, а что «нема правды на свити», это он знает твердо, знает по личному опыту и с этим горестным сознанием он и умрет. Автор «Трудных дорог» тоже ждет смерти, и случайно увидев из-за решетки тюрьмы вольную жизнь, улицу, прохожих, весь вздрагивает: «Неужели они не понимают, какие они счастливцы? Неужели им не хочется прыгать от радости, кричать, смеяться, плакать от этого безмерного, необъятного счастья? «Перед ним, автором, только «безнадежная, слепая и немая обреченность». Но казнь, в неизбежности которой он уверен, заменена ему ссылкой на Соловки. Здесь, в этом финальном эпизоде, Андреева подстерегала большая опасность: соблазн покрасоваться, принять величаво-надменную позу безразличья и презренья к тюремщикам мог бы оказаться сильнее стремления к правдивости, тем более что товарищи автора по заключению обречены, что животная его радость не совсем выгодно оттенена их безысходной тоской. Но автор – или герой – «Трудных дорог», совсем еще мальчик, несовершеннолетний, ничего не утаивает: он справиться со своей радостью не в состоянии, он ни о чем другом думать не в силах, кроме того, что «я буду жить!» – какими словами и оканчиваются его записки.
В целом это замечательная вещь, одна из тех, которые должны бы остаться в назидание потомству. Никакие указания на то, что, мол «лес рубят, щепки летят», не могут ослабить сильного и страшного впечатления, которое она производит. Да, пожалуй, ничего особенно нового по фактам в «Трудных дорогах» нет, да, по десяткам и сотням рассказов мы знаем о том, что делалось в России за последние тридцать – сорок лет, и сколько было в делавшемся нелепо и ненужно зверского, рядом с тем, что какими-то ссылками на неизбежность «щепок», худо ли, хорошо ли, можно было бы объяснить. Но свидетельств, восстанавливавших картину испытанного с такой отчетливостью, полнотой и психологической убедительностью, – а кроме того, с такой еще не иссякшей, еще не растраченной доверчивостью к жизни, с широко и дружелюбно раскрытыми на нее молодыми глазами, – их было у нас мало. В многопудовое и многотомное «дело» нашей эпохи, для будущего, – впрочем, более чем проблематического, – суда над ней «Трудные дороги» должны бы быть включены. А если верно, что все во всем виноваты и все за всех отвечают, – как утверждали иные русские мыслители, – т. е. если действительно люди связаны круговой порукой, то и в этом смысле над повестью Андреева нельзя не задуматься.
В «Двух вариантах» Л. Ржевского тоже есть значительный материал для «дела» нашей эпохи, – хотя рассказ этот, с искусной легкостью написанный, все же лишен исключительной документальной ценности «Трудных дорог». Употребляя слово «легкость», я отнюдь не хочу намекнуть на что-либо легковесное в самом замысле Ржевского: нет, рассказ его по существу трагичен, касается он одной из роковых черт советского строя, и только писательская манера Ржевского такова, что мучительность темы причудливо сочетается у него с беллетристической живостью и ясностью изложения, с «занимательностью» его. Рассказ мастерски построен, правда немножко в духе тех литературных опытов, которые когда-то насаждались в советской России, а теперь подвергнуты гонению, как «штукачество» или «формалистика». С внешней стороны он вообще напоминает кое-что из былой советской словесности, озабоченной поисками формальных новшеств, подлинных или мнимых. Вероятно, в Москве его прочтут – или прочли бы, – как нечто более «свое», чем большинство эмигрантских произведений (даже стилистически более «свое», по самому звуку и строению фразы, по допущению таких, например, словечек, как «муторно» и др.). А о том, какую внутреннюю реакцию он в Москве вызвал бы, приходится только догадываться. В качестве комментария к недавним судорогам, прошедшим в советской литературе, – теперь, после «исчерпывающих указаний тов. Хрущева», возвращающейся к той же тиши и глади, что и при Сталине, – рассказ во всяком случае очень своевременен.
«О, Господи, если б мог я писать так, как мне хочется!» в этих вступительных словах «Двух вариантов» – тема рассказа. С некоторой долей иронии его можно было бы назвать «Муками творчества», подчеркнув, что муки эти в Москве мало похожи на те, о которых говорилось в литературе прежде: Саша Лишин, молодой московский писатель, мучается от того, что должен писать не так, как представляется верным и нужным ему, а так, как требует некто Тесемкин, его «творческий руководитель», «факультетский парторг». Лишин талантлив, у него живое сердце, живой ум, его отталкивают лживые, казенные схемы, которым он волей-неволей должен следовать, и в различных вариантах сочиняемой им повести видно, какое совершено над ним насилие. Неудача любовная сплетается с литературной. Саша гибнет, нелюбимый, непризнанный. Чахотка его, может быть, была и излечима, но писатель в нем несомненно был убит, а не умер естественной смертью.
В Москве, или, точнее, в московской печати, ответят Ржевскому, что его рассказ – клевета, пасквиль, в лучшем случае плод эмигрантского заблуждения и слепоты по отношению к советской действительности. Тов. Хрущев ведь «разъяснил», что партия и народ – одно и то же, что современный русский человек, достойный имени русского и имени человека, не может не видеть, что партия есть воплощение мудрости и правды. Настоящий русский писатель радуется партийному руководству, а не тяготится им, – как же этого не понять! Несомненно, иного гласного, печатного ответа из Москвы ждать нельзя. А что бесчисленные Саши Лишины духовно искалечены, это в Москве знают, наверно, так же твердо, как знаем мы это здесь. Но об этом там молчат.
«Челюсть эмигранта» В. Яновского на днях вышла отдельным изданием. О ней и высказаться, значит, можно будет отдельно.
Из статей надо бы обратить особое внимание на статью Р. Плетнева «Н.Ф. Федоров и Ф.М. Достоевский». Она обстоятельна, содержательна, сопровождена ссылками на источники, а о теме ее неловко даже сказать, что она интересна: это – один из самых загадочных, самых острых, отчасти и «проклятых» вопросов в новой русской литературе. Разумеется, дело главным образом в Федорове, а не в Достоевском, – не потому чтобы Достоевский был менее значителен, нет, конечно, а потому что он, Достоевский, прочитан, перечитан, изучен и по мере сил понят. С Федоровым не то. В эмиграции внимание к нему неуклонно растет, однако при крайней скудости здешних издательских возможностей ни его книг, ни книг о нем у нас нет или почти нет. То, что найти можно у случайных продавцов, ценится на вес золота. В советской же России Федорова полностью игнорируют, и в подтверждение этого я сошлюсь на факт, о котором, помнится, мне уже приходилось писать: в Большой Советской Энциклопедии имени Федорова нет, как нет, впрочем, и имени Конст. Леонтьева! Факт чудовищный, поразительный, если бы только не пришел срок перестать поражаться тому, в какие прокрустовы рамки русская культура в СССР постепенно укладывается. По существу же именно с Федоровым, с замалчиванием его, у советских идеологов произошло недоразумение, – хотя для объяснения этого недоразумения, и для того, чтобы не быть совсем превратно понятым, надо бы иметь возможность высказаться гораздо полнее, чем в газетной статье. Сущность недоразумения, в двух словах, по-моему, в том, что если бы советскую государственную и общественную философию «сублимировать», как принято теперь выражаться, если ее очеловечить, если бы довести ее до последних, чуть ли не метафизических, выводов, то кое-что общее между нею и Федоровым обнаружить можно. «Природа не храм, а мастерская»: знаменитое базаровское изречение, т. е. мысль о необходимости использовать и подчинить себе все силы природы, близка и ей, и ему. Идея «рая на земле», не на небе, а на земле, – близка тоже. Конечно, Федоров – визионер, мечтатель, но вместе с тем и глубочайший рационалист, собиравшийся воскрешать мертвых именно научным путем.
В Федорове есть и безумие, есть рядом и непоколебимая вера в организующую силу разума и знания. Нет сомнения, что появление спутника, например, чрезвычайно обрадовало бы его, как первый шаг к тому заселению вселенной, о котором он говорил, будто о чем-то возможном: нет, не о солнечной системе, а о вселенной, о миллиардах иных систем, на миллиардных, квадриллионных расстояниях! Правда, теперь, после Эйнштейна, некоторые ученые согласны допустить предположение, что при междузвездных путешествиях относительность времени может превратить миллиард лет в несколько секунд, но как бы ни было фантастично, научно спорно и шатко такое предположение, особенно на практике, а не в теории, Федоров-то во всяком случае об относительности не знал! Непостижимо: подлинная мудрость с одной стороны, совершенное сумасшествие с другой! Кстати, Плетнев ссылается на Бердяева, назвавшего в одной из своих книг Федорова «гениальным и дерзновенным мыслителем». Бердяев, очень интересовавшийся Федоровым, высказывал о нем суждения противоречивые, и если на чем-либо настаивал постоянно, то лишь на моральной гениальности его. В этом он был, конечно, прав! Действительно, это был подвижник и святой, действительно в его идее о воскрешении «отцов», в его убеждении, что смерть царит в мире по недостатку в мире любви – моральное зерно наиболее важно, и если сердце может быть гениально, то у Федорова оно было именно таково. На современников, включая и Льва Толстого, он впечатление святого и произвел.
Плетнев в своей статье дает сводку того, что известно о взаимоотношениях Достоевского, а заодно и Владимира Соловьева[34], с Федоровым. Невозможно выбрать, что именно было бы уместнее процитировать, на что указать: в статье все заслуживает самого пристального внимания.
А другое? Интереснейшие статьи Л. Сабанеева о Стравинском, Ю. Иваска о Баратынском, воспоминания покойного Бориса Романова о Павловой и Нижинском, такие же порывистые, как был их автор, воспоминания Е.Д. Кусковой, многое еще: всего не перечтешь и обо всем, к сожалению, не расскажешь.
34
* Совсем недавно, в потоке воспоминаний о «великом Октябре», промелькнула в советской печати любопытная мелочь: когда после революции было решено поставить в главных русских городах памятники выдающимся писателям, Наркомпрос составил перечень их и представил на утверждение Ленина. Из списка этого Ленин выбросил имя Владимира Соловьева, – надо полагать, не без крепкого словца! Удивительно, по-моему, вовсе не то, что Ленин Соловьева вычеркнул, удивительно, что Луначарский мог думать, что он сооружение памятника Соловьеву одобрит. Тут, как ни ищи, точек соприкосновения с коммунистическим идеалом не найти.