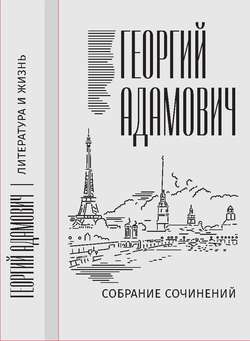Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
Не ко двору: Достоевский в СССР
ОглавлениеСоветские критики сделали замечательно-ценное и смелое открытие: обнаружили, что был в России великий писатель – Федор Михайлович Достоевский. Писатель этот «дорог нашему народу», «близок всему прогрессивному человечеству».
За последние тридцать – тридцать пять лет об этом что-то не было слышно. О Достоевском в Москве молчали. Конечно, всем было известно, что существовал в прошлом веке такой романист, и даже не лишенный таланта, но был он мракобесом, был изувером, – стоило ли о нем вспоминать? В доказательство, что дело обстояло именно так, сошлюсь на факт исключительно красноречивый: в оглавлении распространеннейшего советского школьного руководства по истории литературы под редакцией проф. Бродского имени Достоевского нет. Есть Марлинский, есть Лажечников, Решетников, Курочкин, Гаршин, Надсон, не говоря уж о Щедрине, Гончарове или Островском, которым посвящены отдельные главы. А Достоевского нет! В общем обзоре семидесятых годов ему отведено две с половиной странички, до крайности сбивчивых. Очевидно, можно было еще недавно кончить советскую среднюю школу и, сдавая экзамен по литературе прошлого века, не знать о Достоевском ровно ничего.
Внезапно произошла метаморфоза. К семидесятипятилетию со дня смерти Достоевского московские газеты и журналы пестрят статьями, где, хоть и с оговорками насчет «ошибочного мировоззрения», он прославляется и возвеличивается. Надо полагать, что следующее издание учебника, о котором я упомянул, выйдет в дополненном виде. Составители его прежде не знали, как Достоевского представить, как его «подать», чтобы, избави Бог, не произошло неприятностей. Теперь насчет этого даны указания.
Имя слишком знаменитое, нельзя им пренебречь. Обойти молчанием, скажем, Чаадаева или Конст. Леонтьева можно, на Западе о них почти ничего не знают. Но Достоевский! При всемирном его влиянии, при его всемирном престиже как было не догадаться, что затянувшееся его замалчивание в конце концов станет смешным? Надо было предъявить на него права: «великий писатель», «близок народу», «мы никому его не уступим», и так далее.
Достоевский, видите ли, был обличителем капитализма. Никто с такой убедительностью не показал, что «адские силы царизма» – заимствую это прелестное выражение из «Лит. газеты» от 9 февраля, – угнетали, калечили и терзали человека, никто не дал столь обширной галереи людей больных и жалких. Правда, недостаток великого писателя в том, что он не представил ни одного положительного типа, и этим будто бы изменил основной традиции русской литературы от Пушкина до Чехова (мимоходом хотелось бы спросить: где положительные типы у Толстого? Каратаев? Нехлюдов? Но с советской точки зрения это ведь не образцы для подражания, а скорей юродивые). Достаточно, однако, и того, что может современный, прогрессивный читатель у Достоевского найти. Сила его в отрицании, в критике, а о тех его произведениях, где он, забыв о капитализме, издевался над революционной молодежью, не стоит и говорить. Идейные заблуждения обусловили падение художественное. «Бесы», например: слабая, ничтожная вещь, никак не из разряда тех, которые «нашему народу дороги!».
Вот, в нескольких словах, что теперь о Достоевском в московской печати пишут. Не думаю, однако, чтобы юбилейное прославление его, хоть и однобокое, было началом действительно внимательного к нему отношения. Плохо в это верится. Правдоподобнее предположение, что увлекшиеся критики спохватятся, испугаются, – как спохватятся и кремлевские верхи, – и снова примутся невозмутимо толковать о Щедрине или Чернышевском. С ними спокойнее, а куда забредешь, говоря о Достоевском, и предвидеть нельзя. Дело не в его консерватизме, не в православии, не в монархизме: с этим на крайность можно было бы справиться, сославшись на заблуждения писателя, как было это проделано с Гоголем в недавние юбилейные дни. Гоголь ведь был не менее консервативен, чем Достоевский. Но у Гоголя легко отделить «Ревизора» и «Мертвые души» от «Переписки с друзьями» и сказать: читайте то-то, а вот этого не читайте! Здесь мол, Гоголь велик, а тут ничтожен. При желании такую же операцию можно было бы проделать и над Толстым: читайте «Войну и Мир», не читайте «Исповеди» или «Воскресения»! Но у Достоевского ограничиться игнорированием «Бесов» – кстати замечу, книги истинно гениальной, как бы к ее идейной сущности ни отнестись: неужели в Москве никто этого не понимает, никто громко этого не скажет? Один ведь старик Верховенский чего стоит! – ограничиться игнорированием «Бесов» рискованно. Надо бы исключить и «Карамазовых», и «Преступление и наказание», и «Записки из подполья», оставив, пожалуй, лишь то, что написано до каторги, т. е. тогда, когда, в сущности, Достоевский еще не был Достоевским. Нет, дело не в православии и не в монархических убеждениях, а в чем-то другом.
В Москве воспитывают людей, которых не должны смущать ни недоумения, ни вопросы, обычно именуемые «проклятыми». В Москве все извечные загадки решены, или, точнее, в Москве решено то, что никаких таких загадок не существует. Когда-то люди по невежеству своему верили в Бога: наука разъяснила, что Бога нет. Когда-то люди бились над тем, как бы устроить на земле всеобщее счастье: теперь всякому ребенку известно, что всеобщее счастье придет с торжеством коммунизма. Когда-то люди… впрочем, незачем перечислять всего того, что с московской точки зрения людей волновало и мучило лишь потому, что они не знали Маркса и Ленина. В наш век волноваться нет оснований. А если кому и придет в голову что-нибудь неразрешимо-«проклятое», тому следует обратиться в ближайший горком или обком, где на любое сомнение будет дан авторитетный ответ.
И вдруг человек, в таком духе воспитанный, берется за Достоевского… Вдруг он читает, что хотя, по всей вероятности, дважды два в самом деле четыре, однако «дважды два пять – тоже премиленькая вещица», как сказано в «Записках из подполья». Вдруг он видит в статье Раскольникова, что людей следует делить на стадо и на собственно людей, которые вправе делать со стадом все, что им вздумается, – а затем, в «Карамазовых», находит продолжение и развитие той же идеи, но со страстным на нее возражением. Вдруг он узнает от Кириллова, что если Бога нет, то единственно достойный и верный вывод из такого открытия – самоубийство…
Побежать за разъяснением в ближайший горком? Перечесть «Азбуку коммунизма»? Делаю предположения заведомо смехотворные, но подумайте, в самом деле – что может произойти в голове какого-нибудь духовно-честного, умного и впечатлительного юноши, который в московских условиях начнет в Достоевского вчитываться! Юноша, конечно, не примет мыслей Достоевского на веру, да у Достоевского, в сущности, и нет мыслей, к которым он сам бы относился как к синайским заповедям. Достоевский сам с собой спорит, кружится около своих предположений и догадок, с разных сторон к ним подбегает: полная противоположность однодуму-Толстому, с его может быть и не менее «проклятым», но единым, огромным, цельным вопросом о жизни.
Быть последователем Достоевского в том смысле, в каком существуют толстовцы, трудно, почти невозможно. Но внимательно прочесть его, не заразившись всеми его беспредельными сомнениями, еще труднее! Достоевский – это динамит, способный взорвать мировоззрение и похитрее того, которое насаждается в Москве. Помимо мыслей, самый состав чувств у него такой, что заставляет по-новому взглянуть на все окружающее. Достоевщина? Может быть! Достоевщина стала у нас чуть ли не бранным словом. Но в романах Достоевского все это причудливое, неповторимое сплетение восторга и безнадежности, жалости и отвращения, любви и жестокости так органично и проникнуто таким вдохновением, что презрительным словечком от него не отделаешься. Даже такие страницы, как рассказ Мармеладова, – которые нам теперь нередко кажутся банальными, почти что опошленными, – даже такие страницы при первом чтении должны бы вызвать длительное потрясение ума и души. «Выходите, пьяненькие, выходите, соромники! И мы выйдем, не стыдясь, и станем… И прострет к нам руце свои, и мы припадем… и заплачем… и все поймем!.. тогда все поймем! И все поймут… Господи, да приидет царствие Твое!» Нет, это не критика капитализма, который будто бы до такого состояния человека доводит. И не может быть, что былые «русские мальчики» окончательно очерствели, окончательно одеревенели, и уже не способны понять и почувствовать, что дело тут не в пороках какого-либо общественного строя, а в чем-то бесконечно более глубоком и важном.
По странной случайности юбилей Достоевского совпал с другим юбилеем: столетием со дня смерти Лобачевского. Параллели между ними, кажется, никто еще не проводил. Кое-что общее, однако, есть, – потому что в идейной или психологической области Достоевский сделал открытия и предположения, которые к традиционному взгляду на человека относятся приблизительно так, как Лобачевский к Евклиду… Не знаю, можно ли говорить о прямом влиянии, хотя уже и от сравнительно раннего замечания насчет «премиленькой вещицы – дважды два пять» Лобачевским веет. А в знаменитом, предшествующем «Великому Инквизитору», разговоре Ивана с Алешей есть несомненное указание, что о казанском профессоре Достоевский слышал: иначе не упомянул бы о параллельных линиях, которые «где-нибудь в бесконечности, может быть, и сойдутся». Но это не дает все же права говорить о воздействии Лобачевского, которого к тому же большинство русских считало в те времена еще человеком полупомешанным. По-видимому, Достоевский к своим догадкам пришел самостоятельно. А если вернуться к той роли, которую творчеству его в советской России суждено сыграть, то приходится сказать следующее: Лобачевскому в Москве, может быть, и будет воздано должное (говорю «может быть», без полной уверенности в этом). Но в упрощенном и схематическом представлении о мире, которое в России считается навсегда установленным и научно доказанным, каким бы то ни было внеевклидовским выдумкам или прозрениям, переложенным на идейно-моральный лад, места нет.
В России человеку разрешено думать «постольку-поскольку», «отсюда-досюда». Социальное здание, в России возводимое, имеет шансы удержаться лишь при условии этого неизменного «отсюда-досюда». Как и зачем здание возводится, известно тем, кто постройкой заведует: в их всеведении и мудрости сомневаться никому не разрешено. Обыкновенные смертные должны работать, помогать, слушаться, верить, – и, в сущности, вся советская литература именно об этом, ни о чем другом, и говорит.
Едва ли в такой обстановке не покажется подозрительным внимание к писателю, который если чему людей и учит, то лишь чему-то вроде духовной бессонницы и необходимости неустанно пересматривать и проверять все, что иные близорукие, самоуверенные учителя выдают за истину.