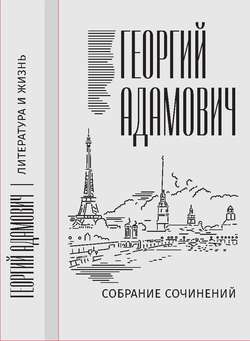Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
«Новый журнал». Кн. 47 и 48
ОглавлениеСледовало бы начать с того, что в последних двух книжках «Нового журнала» очень много интересного, если бы такое указание не было трюизмом: «Новый журнал» интересен всегда, и в каждом его номере есть не только материал для увлекательного чтения, но и «пища уму». Есть всегда над чем задуматься. По привычке или по инерции многие повторяют: но «Современные записки»… Бесспорно, «Современные записки» были богаче, полнее, живее, разнообразнее. Раскроешь теперь любой их выпуск, взглянешь на оглавление, и как старуха-графиня в «Пиковой Даме» вздыхает «кто пел! кто танцевал!», хочется воскликнуть: какие имена! какие люди! Но «иных уж нет, а те далече», и общее наше оскудение с каждым годом все очевиднее. Ничего с этим не поделаешь, никто в этом не виноват.
Предпоследняя книжка «Нового журнала» открывается «Трудными дорогами» Г. Андреева, переведенными, наконец, из отдела воспоминаний и документов в отдел художественной прозы. Это повышение в ранге «Трудными дорогами» вполне заслужено, если даже по существу они и представляют собой воспоминания.
Я не читал той книги Г. Андреева – «Горькие воды» – о которой в сорок восьмом номере журнала пишет В. Александрова, но судя по «Дорогам», отзыв ее об авторе как о человеке с «не очень громким писательским голосом» чрезмерно осторожен. Конечно, никто не знает, каков от природы у Андреева «голос», да и не все «громкие» голоса ценны и долговечны, но эпитеты вроде «слабоватый», в рецензии В. Александровой встречающиеся, могут внушить представление, что речь идет о писаниях, требующих снисходительности. Между тем «Трудные дороги» – повесть по-настоящему талантливая, отлично передающая то неповторимое, прихотливое смешение чувств, которое возникло у человека совсем еще молодого, бежавшего из каторжного лагеря, знающего, что на удачу в побеге нет надежды, и все-таки наслаждающегося этой короткой свободой, этой возможностью бродить, говорить, спать, даже голодать без надзора и окриков сверху, обреченного и счастливого в то же время. Некоторые страницы ужасны в своем беспощадном и спокойном реализме, и именно благодаря спокойствию они убедительнее многих иных рассказов отражают то «удавье дело», – как говорит Андреев, – которое никакими проблематическими будущими земными раями оправдано быть не может: достаточно прочесть хотя бы рассказ о встрече с группой полумертвецов, раскулаченными крестьянами, сосланными в тайгу, чтобы с новой силой – пусть и в сотый раз – это почувствовать.
В сущности, то, что в последние сорок лет произошло в России, – даже если признать, что совершено оно было именно во имя будущих равенств и благополучий, – возвращает нас к недоумениям Ивана Карамазова насчет цены, в которую должна обойтись «финальная гармония», и не случайно тема эта в ранней советской литературе постоянно сквозила и маячила, – у Юрия Олеши, например, или у Леонова, – пока не оказалась заглушена гулом производственного и строительного энтузиазма по правительственным рецептам. Правда, Карамазов говорил только о детях, никому никакого зла еще не сделавших и страдающих невинно. Но вопрос так широк и глубок, настолько «проклят», что ограничить его детьми невозможно. В русской литературе он задолго до Достоевского был с совершенной ясностью поставлен Белинским, и как свойственно было нашему подлинно «неистовому» Виссариону, тут же в двух словах, с лихорадочной поспешностью разрешен (письмо к Боткину).
У Андреева, помимо страшных бытовых картин, очень хороша природа. Не следует, однако, разглядывать его слог в лупу, останавливаясь на каждой строчке. Отдельные фразы могут показаться написанными наспех, начерно. Но в целом могучий, девственный сибирский лес, могучие сибирские реки, солнце, зима, снег, – все это отражено с естественной верностью тона и заразительным восхищением. Автор «Трудных дорог» – писатель сравнительно новый для эмиграции, из «Ди-Пи». Будем надеяться… стереотипное предложение это незачем кончать: каждый договорит его сам.
Г. Евангулов, наоборот, – писатель, давно эмиграции знакомый, опытный, успевший приучить читателей к своей повествовательной манере. «Игра» напомнила мне давний рассказ его – если не ошибаюсь, называвшийся «Четыре дня» и помещенный лет двадцать тому назад в «Современных записках». По фабуле рассказы различны: там было о мучительно-затянувшейся голодовке, здесь – о картах, но в обоих героем – или, вернее, жертвой – оказывается человек беззащитный перед судьбой или своими страстями (что в индивидуальном существовании большей частью сливается в одно неделимое целое, хотя люди и не отдают себе в этом отчета).
В новом евангуловском отрывке виден опыт не только писательский, но и игорный: психологически все в нем так же правдиво, как внешне, и в изображении парижских карточных притонов. Кстати, что в нашей литературе написано о картах и азарте самого верного, самого незабываемого? Когда-то был об этом в писательской среде долгий спор. По-моему, на первом месте, вне сравнений, – Николай Ростов, проигрывающий Долохову сорок тысяч, а у Достоевского не «Игрок», нет, а отчаянные его письма к жене из всяких Гамбургов и Баден-Баденов, с мольбами о прощении и клятвами никогда больше не играть, клятвами, которым юная, но успевшая узнать мужа Анна Григорьевна, конечно, не верила.
В сорок восьмой книжке «Нового журнала» – «Бред Шелля» покойного М. Алданова, отрывок из романа уже известного. Под действием какого-то наркотического средства Шелля, агента американской разведки, то мучают кошмары, то смущают соблазнительные видения прошлого, и это дает повод Алданову высказать несколько остропроницательных соображений о советских порядках в последние сталинские годы или перенестись в Версаль, где стареющий король Людовик XV безмятежно развратничает, успокаивая себя тем, что «потоп» настанет «после». Не раз уже мне приходилось говорить об одной из отличительных черт алдановского дарования – о его вежливости к читателю, о его постоянной озабоченности тем, чтобы не дать читателю скучать.
«Бред Шелля» – красноречивый образец этого. Отрывок непрерывно держит внимание и мысль настороже, и в переходах от содержательности идейной к содержательности живописной исключительно характерен для автора. Особенно замечательно начало, в котором Шелль, беседуя в бреду с русским изобретателем-ученым, уговаривает его бежать с ним в Америку и объясняет, почему в советских условиях невозможна творческая работа. Неожиданно доводы Шелля «перекликаются» – как теперь принято выражаться – с мотивами дудинцевского отныне знаменитого романа, о «Хлебе едином», романа, которого Алданов знать не мог. Добавлю, что на «Хлеб единый» помещена в журнале большая рецензия Романа Гуля, одна из самых верных, которые приходилось до сих пор читать (кроме замечания, что «написан роман по старинке»: что это значит? не пора ли пересмотреть вопрос о ценности новизны «как таковой»? Не пора ли одуматься поклонникам «новизны для новизны», «во что бы то ни стало», ради щекотания нервов? М. Слоним недавно поместил в «Новом русском слове» статью о новаторстве, пылкую и на первый взгляд как будто убедительную, но только потому, что сущность вопроса в ней полностью обойдена).
От Алданова к Ремизову – будто с одной планеты на другую, или, по крайней мере, из одного века в другой. Нет, кажется, в нашей литературе двух писателей столь различных в отношении к своему «святому ремеслу», в приемах, во взглядах, в настроениях, в характере, – решительно во всем. Можно, разумеется, довести эклектичность вкуса до того, чтобы одинаково ценить обоих, можно и к обоим остаться равнодушным, безразличным. На деле, однако, как всякий более или менее близкий к литературным кругам человек знает, взаимное отталкивание распространяется и на читателей: поклонники одного недолюбливают другого. (Об этом писал в дневнике своем еще Александр Блок, и притом именно по поводу Ремизова: но в качестве «антиремизовца» он назвал драматурга Гнедича, о котором всерьез говорить вообще трудновато.)
Отрывок из романа «Плачужная канава» написан давно, более сорока лет тому назад. По сравнению с позднейшими произведениями Ремизова он сдержан, менее витиеват и причудлив по языку, да, пожалуй, и по общему своему складу. Было бы крайне желательно прочесть весь роман полностью. Даже и в той сравнительно небольшой его части, которая помещена в журнале, чувствуется, что основной, глубокой своей теме Ремизов был верен всегда, при любых вариациях в ее разработке: тема эта – некое «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя», вопль к небу, страстная тоска о человеке, которому на земле вовсе не «скучно и грустно», а прежде всего страшно.
Стихов много, и есть среди них стихи очень хорошие. Нельзя не обратить внимания на А. Величковского. Его поэзии, может быть, и чужды элементы прелести или очарования, но зато в ней есть тяжесть, скромность, упорство, настойчивость, глухая печаль, а главное – свой, особый напев. Даже в моменты явного литературного простодушия, – как в коротеньком стихотворении о свече перед иконой, – он остается в этом смысле самим собой. Олег Ильинский – стихотворец, несомненно, даровитый, но дарованию его, по-видимому, еще далеко до зрелости. Мне могут возразить, что стихов будто бы «зрелых», – независимо от возраста пишущего, – то есть таких, где все эмоции будто бы пережжены и переплавлены, где в неизменный пятистопный ямб уложены размышления о суете сует, где все пристойно, приятно, благоприлично и все чуть-чуть ни к чему, – что таких стихов у нас хоть отбавляй… Совершенно верно! Но и размашисто-декламационные выкрики о венгерском восстании тоже ни к чему, еще больше ни к чему! Есть какое-то разительное, мучительное несоответствие между событиями, вроде будапештской драмы, и торопливыми, квази-поэтическими иллюстрациями к ним. Читая стихи о Венгрии, я вспомнил знаменитое изречение Андре Жида насчет того, что «хорошие чувства идут на изготовление плохой литературы». Справедливость требует, однако, добавить, что в иных случаях литература Ильинского бывает и хорошей, например, в цикле о «Памяти».
О Иване Елагине и Ольге Анстей – отложим разговор для другого раза, чтобы не отделываться несколькими словами по поводу случайно попавшихся стихов. Наша критика у обоих этих поэтов в долгу, даже если и были о них отдельные заметки.
Оставляю под конец два стихотворения Георгия Иванова, как всегда мастерские, со все больше усиливающимся у него стремлением к смешению поэтичности с прозаизмами, будто сахара с солью. Метод был бы для другого стихотворца опасен, но Георгия Иванова спасает то, что надо признать его чудесной особенностью: как сердце, по Пушкину, «любит оттого, что не любить оно не может», так и стихи его всегда поют, – очевидно, потому что «не петь не могут».
Статья моя разрослась, а сколько бы еще надо в двух книжках журнала отметить, даже если ограничиться словесностью, которую в прежние времена называли «изящной»! Воспоминания Е.Д. Кусковой о «Давно минувшем» вызвали, кажется, у всех читателей оценку единодушную и обезоружили даже тех, кто в спорах политических склонен винить автора в грехах чуть ли не смертных. Для русской провинциальной жизни конца прошлого века, для характеристики тогдашней интеллигенции, сбитой с толку, притихшей после 1 марта, но все еще беспокойной и свободолюбивой, для блужданий ее между толстовством, народничеством и едва-едва начавшим распространяться марксизмом – это документ первостепенной важности, порой даже в самом стиле своем. «Замужество – серьезный этап в жизни девушки… Простая запись в мэрии не отмечает с достаточной силой этого психологического перелома души при переходе в новую стадию существования». Е.Д., может быть, сама не почувствовала, когда писала эти строки, сколько в них «аромата эпохи» и как много они в самом выборе слов дают уловить и понять. Очевидно, «давно минувшее» в процессе писания действительно ожило в ее сознании, слилось с настоящим.
Возразить я позволю себе только насчет Некрасова. В воспоминаниях приведены его величавые и трагические строки «Волга, Волга, весной многоводной…», а дальше сказано: «Удивительно! тогда все это волновало, трогало!» Уверяю Екатерину Дмитриевну, что и теперь, почти три четверти века спустя, это трогает и волнует многих: по-моему, должно бы волновать всех тех, кто к поэзии не утратил слуха.
Юрий Анненков очень живо, ярко, порой и с благоговением, пробивающимся сквозь привычную для него иронию, рассказал о своих встречах с Блоком. Н. Валентинов – о встречах с Андреем Белым, примешав, впрочем, к воспоминаниям крайне спорные и довольно желчные соображения о творчестве поэта и о символизме.
Выделить особо надо бы «Мысли о музыке» Н. Метнера. Не решаюсь судить о них с чисто музыкальной точки зрения, но как мысли об искусстве вообще, они остры, смелы и верны. Сошлюсь хотя бы на строки, – пусть и не совсем справедливые по отношению лично к Прокофьеву, – о мнимых новаторах, которые по Метнеру только тем и новы, что «показывают язык своим бывшим учителям» и наперебой стараются изумить мир «жалким школьничеством»[33]). К сожалению «жалкое школьничество» все успешнее, все беспрепятственнее в наши десятилетия сходит за высокие и многозначительные искания, и тем-то оно и страшно.
33
У Хиндемита, в одной из ранних его опер, притом в самый комический ее момент, дважды звучит мелодия из «Тристана». Допускаю, что Хиндемит очень талантливый музыкант, но что в какой-то мере он и «жалкий школьник», не сомневаюсь тоже. До чего все это глупо, на какие низменные отклики рассчитано!