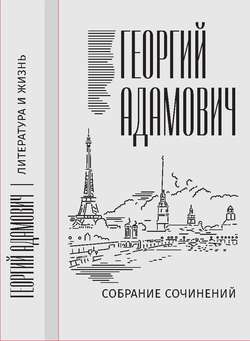Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
Писатель для юношества
ОглавлениеВ очень интересной, но и очень спорной, и притом будто с каких-то синайских высот написанной статье – «Миф Владимира Маяковского» – Н.А. Оцуп говорит о многом: одно устанавливает, как незыблемую истину, другое категорически отбрасывает. Статья программная, имеющая, по-видимому, целью внести ясность в современную идейную путаницу, навести в литературе порядок… У меня нет оснований Оцупу возражать. Если я статьи его касаюсь, то лишь потому, что в ней он с досадой говорит о некоем «эмигрантском писателе, который с непонятной настойчивостью утверждает, что Достоевский – писатель для юношества». Его, этого эмигрантского писателя нетрудно было бы, по мнению Оцупа, разоблачить, как «тайного врага религиозной сути христианства», – ибо только такой человек способен отрицать, что «суть христианства» заключена в «уроках подвижничества старца Зосимы и отчасти в мирской жизни Алеши».
Определение Достоевского как «писателя для юношества» принадлежит мне. Об этом я действительно не раз, может быть даже «настойчиво», говорил, но, очевидно, говорил недостаточно ясно. А так как вопрос представляется мне и интересным, и важным, то я хотел бы воспользоваться случаем и мысль свою развить. Подчеркиваю «во избежание недоразумений», – а любители устраивать «недоразумения» всегда находятся, – что я с Оцупом не полемизирую, себя не защищаю и о себе говорить не намерен. Оставляю на совести автора статьи упрек во «вражде к христианству», обхожу его молчанием. Дело не во мне, не в Оцупе, а в Достоевском. О Достоевском, значит, и должна быть речь.
Писатель для юношества – не было ни в коем случае характеристикой пренебрежительной, и как бы к Достоевскому ни относиться, в этом определении скрыто было, в моем представлении, скорей признание его исключительной силы и исключительных особенностей его творчества, чем умаление достоинства. Никак я не предполагал, что характеристика эта будет истолкована в примитивном фениморкуперовском или майнридовском смысле: писатель для людей незрелых, писатель, взрослым не интересный. Слишком уж это на Достоевского не похоже! Если формула, мной употребленная, и не была совсем обычна, то содержание ее казалось мне понятно. Очевидно, это не так.
О Достоевском размышлять можно всю жизнь, можно всю жизнь и перечитывать его. Но в первый раз лучше прочесть его в шестнадцать или восемнадцать лет, не отрываясь, всего подряд, когда «впечатления бытия» еще новы, когда глаза еще доверчиво и широко открыты на Божий мир. Надо, чтобы в душе еще девственной, отзывчивой и свежей произошло великое потрясение, следы и раны от которого останутся на все дальнейшее существование, надо, чтобы человек именно в шестнадцать лет узнал, что в жизни может случиться и сколько в жизни может таиться боли, страдания, бессмысленного и беспричинного зла. Позднее мы задумываемся над различными «проблемами», в «Карамазовых» или в «Идиоте» затронутыми, – хотя каюсь, «проблемы» и теперь представляются мне чем-то второстепенным, умышленным, сравнительно малосущественным, и с годами это мое убеждение усиливается.
Достоевский был великим выдумщиком и, конечно, по части «проблем» он дает уму и воображению больше пищи, чем все остальные русские писатели, вместе взятые. Достоевский высказывает мысль как предположение, не принимая за нее полной ответственности, чего никогда не делает Толстой: оттого-то, – независимо от его необыкновенной умственной одаренности, – он на вопросы и сомнения так расточителен. В Достоевском и в его идеях чрезвычайно много смелого, любопытного, оригинального, острого, глубокого, и не случайно одинокие размышления Раскольникова о разнице между Наполеоном и вошью оказали столь сильное влияние на Ницше, а догадки Кириллова, например, о праве человека «заявить своеволье» вызвали целую философскую литературу… Все это, разумеется, страницы в высшей степени замечательные, хотя, может быть, и не бессмертные, в том смысле, что содержание их со временем может оказаться исчерпано.
Подлинно бессмертно у Достоевского, мне кажется, другое: страницы о людях в том состоянии, когда человеку «пойти некуда», когда жизнь взяла человека за горло, а он, человек, все-таки чувствует в себе присутствие образа и подобия Божьего и не может ни от образа, ни от подобия отказаться, когда безнадежность в его душе сплетается с восторгом, отчаяние с верой…
Нет, лучше не продолжать, потому что нельзя своими словами передать всю эту смесь чувств, впервые и с необычайной страстностью, с несравненной гениальностью Достоевским показанную, глупо и даже грешно было бы пытаться это сделать! Нет, однако, ни малейшей парадоксальности в утверждении, что в рассказе Мармеладова, – да, в истрепанном, надоевшем, опошленном всеми провинциальными трагиками рассказе Мармеладова! – больше неповторимой и единственной новизны, чем во всех рассуждениях Ивана Карамазова, – новизны реальной, а не придуманной. Именно это Достоевский принес в мир как величайшую драгоценность, и это именно то, что в шестнадцать лет должно бы навсегда в сознание врезаться. В сорок лет человек прочтет, скажем, пушкинскую речь, зевнет и, покачав головой, подумает: да, кое-что справедливо, а вот это – не совсем верно, и я лично придерживаюсь другого мнения, да и профессор такой-то недавно высказывал совсем другой взгляд! В шестнадцать лет мальчик прочтет о том, как Катерина Ивановна всю ночь простояла в ногах Сони, после того как та вернулась домой с тридцатью рублями, и сам всю ночь проведет без сна, мучаясь, недоумевая: как все это возможно, где всему этому ужасу найти оправдание? Или прочтет главу из «Подростка» о матери в пансионе Тушара, или «Кроткую».
Действительно, в целом мире, во всей мировой литературе, ничего подобного нет, пусть это и не значит, что Достоевский – величайший в мире писатель, «выше Толстого». Толстой сделал свой вклад. Достоевский – свой, и хотя русские люди, вероятно, до конца нашей истории не перестанут спорить, кто «выше», решать это бессмысленно, а решить невозможно. Пожалуй, можно бы сказать, что Толстой основательнее. Достоевский в общем своем замысле более шаток, фантастичен и в конце концов эфемерен, – но и только. Несомненно, у Достоевского есть то, чего тщетно было бы искать у Толстого: состав чувств, им уловленный, им открытый, вероятно по собственному опыту, вопль к небу, некое «Господи, воззвах к тебе, услыши мя». Больше всего именно это, «услыши мя!» Нужно было, очевидно, простоять несколько минут на Семеновском плацу в ожидании неминуемой смерти, нужно было провести четыре страшных года на каторге в Сибири, чтобы на это набрести.
Вот, собственно говоря, что я имел в виду, когда писал о «юношестве». Счастлив тот человек, который до зрелости или даже до старости сохраняет былую восприимчивость, однако таких людей мы что-то не встречаем… Нет, впрочем, одного человека назвать могу: помню, Анна Ахматова говорила когда-то, что не может Достоевского читать, бросает книгу на половине, – потому что не может выдержать ответного нервного напряжения, заболевает, чуть ли не сходит с ума. Правда, это было давно. Ахматова была еще молода, а с тех пор, вероятно, как все смертные, стала выносливее и равнодушнее. Время одинаково беспощадно – или одинаково милосердно – ко всем.
Два слова о старце Зосиме, в «уроках подвижничества» которого будто бы заключена суть христианства. Об этом в русской литературе были долгие споры, Оцупу, несомненно, известные. Зосима считается списанным со знаменитого оптинского старца Амвросия, хотя Константин Леонтьев, хорошо Амвросия знавший, подолгу с ним беседовавший, утверждал, что это – не портрет, а карикатура. Леонтьев утверждал и другое: а именно, что оптинские старцы, познакомившись с поучениями Зосимы, без колебания их отвергли. «Розовое» христианство, – с пеной у рта говорил Леонтьев, – приторное, фальшивое, близорукое, сентиментальное, тепленькое… Не знаю, был ли он прав, это вопрос очень сложный, с бесконечными «за» и «против». Но, конечно, в том же мармеладовском рассказе, особенно в его удивительном, вечно памятном конце, «суть христианства» очевиднее, живее, непосредственнее, действеннее, чем во всем том, что Достоевский своему красноречивому и благодушному Зосиме поручил высказать. Нельзя даже и сравнивать одно с другим, нельзя и усомниться, где больше отблесков того огня, который, по евангельскому тексту, был когда-то «низведен на землю».
Иностранцы чувствуют это иногда не хуже русских.
В прошлом году, в связи с семидесятипятилетием со дня смерти Достоевского, по мюнхенскому радио были переданы в Россию различные отзывы и суждения о нем, в том числе – небольшая заметка известного английского поэта Одена, затем помещенная в газетах.
Начал Оден довольно странно. Признавшись, что Достоевский ему чужд, он сослался на то, что автор «Карамазовых», видите ли, – «не джентльмен», и пишет не о «джентльменах». Действительно, слово «джентльмен» к Достоевскому никак не подходит, – что и говорить! Но, будто спохватившись, Оден в заключение сказал несколько слов глубоких и верных. Достоевского, по его мнению, должны бы особенно внимательно прочесть люди, добившиеся в жизни успеха, почета, солидного положения, – дельцы, банкиры, государственные деятели. Им большей частью кажется, что мир устроен правильно. Является Достоевский и заставляет их взглянуть на все то, чего они не знают и знать не хотят. На Достоевском, на его мыслях, – считает Оден, – нельзя построить общества. Но то общество, которое забудет все, о чем Достоевский рассказал, недостойно называться обществом человеческим.
Да, это действительно так, «да, да, да!», – писал в подобных случаях Розанов, не скупясь на восклицательные знаки. Следовало бы только добавить, что люди, о которых говорит Оден, должны бы прочесть Достоевского в молодости. Потом будет слишком поздно, потом они скажут, что русский романист донкихотствует, что он не знает настоящей жизни, и что все у него преувеличено, что борьба за существование имеет свои непреложные законы, и так далее… Надо, чтобы в молодости душа ответила Достоевскому всем своим содроганием, тогда и до последних лет человек сохранит стыд, хотя бы и глубоко затаенный, за всех, кто дальше борьбы за существование и ее законов, ничего не видит. За всех, – не исключая, конечно, и самого себя.