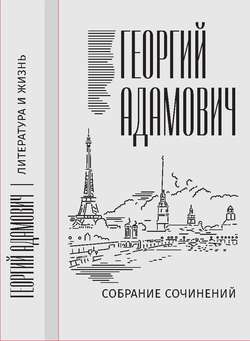Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
После войны
ОглавлениеI
За последние десять лет в эмиграции вышло немало хороших книг. В журналах и газетах были помещены талантливые романы и рассказы, содержательные статьи. Некоторые из появившихся в последние годы стихов достойны того, чтобы запомнить их надолго. По мере сил, количественно не Бог весть каких богатых, эмиграция, значит, продолжала делать в литературе нужное России дело, с уверенностью, что рано или поздно оно будет оценено. Да, как будто бы так! Сетовать как будто бы не на что. А между тем тревога за участь нашей литературы растет, и не думаю, чтобы можно было отрицать ее основательность иначе как по недостатку внимания, безразличию или по стремлению считать белое черным и черное белым.
Общий уровень эмигрантской словесности, уровень, так сказать, «культурный», а то и просто грамотный, непрерывно и неуклонно падает, а появление отдельных прекрасных произведений скорее оттеняет это скольжение, чем задерживает его и сводит на нет. Общий уровень «опровинциаливается», будто духовная гегемония в литературе от Петербурга и Москвы мало-помалу переходит к Рязани и Царевококшайску.
До войны уровень колебался, как колеблется он всегда и везде, но чувство, возникающее теперь, тогда отсутствовало: чувство, будто движется на нас какая-то серая мутная волна, которая при слабости сопротивления или беззаботности в защите может все захлестнуть. До войны, в бесконечных тогдашних спорах и толках о литературе советской и литературе здешней, большинство спорящих бывало объединено сознанием, что если у нас здесь есть какое-нибудь особое, важное дело, – или даже «миссия», – то сводится оно к сохранению высокого и свободного представления о творчестве, и что должны мы делу этому быть верны, без всякого с нашей стороны самоупоения и бахвальства. Не то чтобы были мы в эмиграции как-то особенно даровиты, особенно возвышенно настроены или отмечены судьбой, – нет, нисколько: дело было делом нашим просто потому, что должна же была история, в ею же затеянных передрягах, кому-нибудь его поручить, а кроме нас для этой роли никого в данное время не было.
Понижение литературного уровня в России после революции было неизбежно, – кто же этого не понимал? Случалось иногда смеяться, притом «горьким смехом», над отдельными уродствами, с этим понижением связанными, в частности над крайностями в раболепии. Случалось ужасаться торопливому отказу от основного, почти священного для всякого писателя права: права на замысел, на свободное личное истолкование жизни и всех ее явлений. Но сам по себе тот факт, что бесчисленные новые сотрудники советских журналов писали и пишут несколько суконным языком, на несколько примитивные темы, – независимо от какой-либо пропаганды, – ничего удивительного и неожиданного не представлял.
Иначе и быть не могло. Нам не нравился этот язык, нам были скучноваты эти темы, с неизменным торжеством коммунистической добродетели и посрамлением контрреволюционного порока в их развитии, но нельзя же было забыть, что перо в руках держат люди, которые недавно еще не совсем твердо знали, как с пером обращаться! Былая глубокая и узкая русская культура растекалась в ширину, неизбежно при этом мельчая. Как бы к революции ни относиться, это ее последствие, особенно в первоначальной стадии, невозможно было счесть явлением исключительно отрицательным или беззаконным, – да и чего искали былые русские «кающиеся дворяне», как не нравственного оправдания этой, пугавшей и притягивавшей их жертвы? Вопрос, что и говорить, большой, сложный. Затронул я его только для того, чтобы высказать мысль несомненную и ничуть не сложную: в эмиграции оснований к культурному снижению нет и не было, как не было и нет для него оправдания. Если мы его допустим и если мы с ним примиримся, то еще одной иллюзией, связанной с выполнением каких-либо наших «миссий», станет у нас меньше.
Когда-нибудь мы вернемся в Россию, – мы, наши дети или наши внуки. Каждый из нас, вероятно, не раз спрашивал себя: с чем вернемся? Поскольку речь идет о литературе, ответ не может обойти одного из двух положений: во-первых, приглядевшись к Западу, приобщившись к его жизни и быту, должны будем рассказать о нем правдивее и вернее, чем было это сделано былыми, случайными путешественниками, то чрезмерно восторженными, то близоруко-презрительными, а, во-вторых, – и это много важнее, – хорошо было бы, если бы оказались мы в силах перенести в жестокий и дикий двадцатый век то, что одушевляло в России век девятнадцатый со всеми его противоречиями и всем его единством.
Утверждение это, пожалуй, кое-кого удивит, будто подразумевается в нем нечто вроде литературной и духовной реставрации. Нет, прошлое есть прошлое, воскресить его в былых его формах нельзя. Но, не говоря уж о том, что русский девятнадцатый век был одной из вершин во всемирном развитии культуры и что были в его облике черты непреходящие, вечные, мы по историческому возрасту своему, по самому положению своему – ближайшие его преемники. Не оттого ли и очутились мы в эмиграции, что хотели его отстоять, по мере возможности его продолжить? У нашего консерватизма нет другого смысла, – в особенности, если консерватизм это живой, обращенный к будущему, а не мертвый, и великим нашим несчастьем была бы неспособность прошлое с будущим в этом отношении связать.
Но литература, – скажут мне, – падение уровня, убыль литературной грамотности, причем здесь все это? Неужели русское будущее в опасности оттого, что какие-то повестушки или стихотворения в наших журналах и газетах не совсем достойны наследников Пушкина или Толстого? Да, в опасности, как бы ни казалось это парадоксально на первый взгляд. Литература существует не для развлечения, а для выражения и отражения того, чем возвышается человек над всем остальным животным миром. Падение уровня в той исторической обстановке, в какой живем мы теперь, – явление многозначительное, даже трагическое, и дай Бог, чтобы удалось остановить его в его развитии.
Надо же понять, что не в нашем читательском удовлетворении, или, наоборот, неудовольствии, вопрос, а в том, что русская культура, вышедшая в прошлом веке на авансцену истории, сейчас в России приняла формы насильственные и механические, что для ее движения там проложены некие рельсы, с заранее намеченным конечным пунктом, и что если нам здесь дано гулять и блуждать, куда кому вздумается, вне всяких маршрутов, то с этим сопряжена и огромная ответственность…
Мы не имеем права нашей литературой пренебречь, не вправе спустя рукава и с более или менее сомнительной грамотностью «пописывать», оставив читателя, к тому же усталого и достаточно потрепанного жизнью, «почитывать», без малейшего ответного и сколько-нибудь творческого усилия. В сущности, не имеем мы права сдавать и терять былую русскую литературную сто-личность, и забыть, что – по плечу нам это или нет, – тянуться, да, хотя бы только тянуться должны мы к тому, чтобы сознавать себя преемниками Пушкина, Чаадаева, Гоголя, Тютчева, Баратынского, Герцена, Леонтьева, Достоевского, Соловьева, Толстого, – называю имена умышленно разнородные, в полнейший идейный разнобой, объединяя их лишь по признаку «уровня», – а не продолжателями Мамина-Сибиряка, Шеллера-Михайлова, Надсона, Фруга или Потапенко. Нео-Шеллеров и нео-Потапенок в советской России вполне достаточно, и скажу еще раз: помимо принуждения к известному литературно-духовному складу, должна там давать себя знать и неслыханная социальная перетасовка последних десятилетий, как дает себя она знать там во всех областях, например – в манере говорить, в произношении слов, в интонации и строении речи.
Иногда в разговорах на такие темы приходится слышать, чаще всего от людей из России недавно уехавших, нечто вроде следующего: «Да что вы!.. Да забудьте вы ваши причуды, ваши никчемные петербургские выдумки!.. В наше-то время… Какие там уровни!.. Динамическая эпоха, суровость, трезвость… Кому нужны теперь все эти туманы!» – и прочий плоский вздор, от которого подлинно уши вянут, вздор тем более страшный, что в каком-то смысле исконно русский, «рассейский», выплывающий из темных глубин, с полуслова знакомый. Были в России Пушкин и Толстой, но было и это. И до сих пор есть. Надо сделать действенный выбор, нельзя ограничиваться вздохами и сожалениями, пожалуй и согласившись насчет «динамической эпохи».
Когда, как, откуда возникла опасность? Об этом – в следующий четверг.
II
Было бы ошибкой объяснять падение литературного уровня в нашей печати какой-либо одной причиной. В жизни, личной или общественной, все сплетено и переплетено, и крайне редко случается, чтобы отдельное явление не было последствием целого ряда других. Вернее, не случается этого никогда.
В том вопросе, о котором я говорю, особенно важны, пожалуй, два обстоятельства. По существу независимые друг от друга, но оказавшиеся тесно связанными: во-первых, естественная убыль сил в старой эмиграции, во-вторых – появление эмигрантов новых, страстно отталкивающихся от всего советского и вместе с тем несущих в литературу именно то, что советской поэзии и прозе свойственно.
Об этом писал, – и писал очень верно, очень проницательно, – в «Новом журнале» Н. Ульянов, сам принадлежащий к эмиграции новой. Его положение в данном случае удобнее, чем положение человека, выехавшего из России в первые годы революции: никто не заподозрит его в скрытой вражде к «пришельцам», в трагикомическом эмигрантском высокомерии или, еще хуже, в боязни за свои насиженные места и позиции. Он сам – плоть от плоти нового эмигрантского слоя, ему легче быть вполне откровенным в беседе со сверстниками или товарищами по участи. Однако к его утверждениям и замечаниям следовало бы кое-что добавить.
Среди поэтов и прозаиков из числа так называемых «ди-пи» есть люди не только подлинно одаренные, но и такие, которые в общее русло нашей литературы входят сразу беспрепятственно, как несомненно «свои». Не все ими написанное может нравиться, но тон, склад, сущность этих писаний убеждают, что спорить не о чем, возражать не на что: перед нами не случайный непрошеный гость в литературе, а человек, которому должно быть отведено в ней место. Едва ли любителям поэзии нравятся, например, все стихи В. Маркова, но достаточно было прочесть в том же «Новом журнале» его воспоминания о советском студенческом житье-бытье, чтобы доверие к нему, автору прелестных и своеобразных «Гурилевских романсов», окончательно окрепло. Не буду называть других имен, чтобы не создалось впечатление, будто присваиваю я себе право отделять в литературном ковчеге «чистых» от «нечистых», – но как не назвать хотя бы имя И. Елагина! Есть где-то у Ремизова запомнившееся мне выражение «пробка вместо уха»: так вот, не расслышать того, что Елагин – истинный, прирожденный поэт, как бы ни были спорны его поэтические методы, только при наличии «пробки» и возможно.
Однако это скорее исключения. Замечательно, что «ди-пи» принесли с собой, – по-видимому, в порядке самозащиты, – особую заносчивость, вызывающую, требовательную уверенность своей общественной значительности, в своей творческой правоте, в своем праве на внимание. Говорю «в порядке самозащиты» потому, что вероятно, под этой заносчивостью кроется сомнение и боязнь, как бы не обнаружились промахи по части общей культуры, социально может быть и оправданные, но литературно все же досадные. Переход в наступление не всегда ведь представляет собою доказательство силы, бывает он и маскировкой растерянности.
Новые литераторы-эмигранты очень любят местоимение «мы», и произносят они его с характерной гордостью, давая понять, что «мы» знаем что-то такое, чего «они», в данном случае эмигранты старые, не знают. «Нам это чуждо», «мы это отвергаем», «для нас это отнюдь не интересно», – и так далее, будто некие непререкаемые заповеди, с неизменно подразумевающимся указанием, что если для «нас» что-либо малоинтересно, то, следовательно, это и само по себе вздор, чепуха, устарелые интеллигентские причуды. «Мы» – новые люди, «нам» принадлежит будущее… Кто спорит, ди-пи много вынесли, многое перетерпели, и, несомненно, опыт их кое-чем обогащен по сравнению с опытом людей, из России выехавших четверть века тому назад, а то и раньше. Напрасно только они думают, что этого в эмиграции старой никто в расчет не принимает: нет, если здесь и возникает иногда по отношению к ним некоторое недоверие, то никак не в силу их биографии, а исключительно из-за их стремления использовать эту биографию, как верховный козырь в литературной игре. «Вы безмятежно читали Гёте или Бодлера, а мы в эти годы задыхались в концлагерях»… – как бы говорят они.
Да, – хотелось бы ответить, – да, мы знаем, мы отдаем себе отчет, что делает с человеком концлагерь, какой сверх-достоевской, сверх-некрасовской страстью и слухом к страданию может он душу человека усложнить. Постыдно было бы об этом забыть. Но если уж говорить правду, то и делать на каторжном паспорте успешную литературную карьеру по нашему, – без кавычек нашему, – разумению чуть-чуть неловко, а что касается нарицательных Гёте или Бодлера, то чтение их было полезно, как гарантия или по крайней мере помощь в посильном сохранении духовного уровня. Нам и вам надо было бы это понять, и, не пренебрегая ни тем, ни другим опытом, а в особенности ничем друг перед другом не похваляясь, постараться писать так, чтобы написанное не было ни салонным, вычурно-модным рукоделием, действительно никому сейчас не нужным, ни сероватым сырьем, «от сохи», или по теперешнему – от трактора.
Средний рассказ или роман среднего беллетриста из новых эмигрантов представляет собою, в большинстве случаев, копию советского романа или рассказа с вывернутой наизнанку тенденцией: вместо коммунистической морали предлагается мораль противоположная, только и всего. Краски, стиль, приемы – те же. Внутренний уровень – тот же. Подается это притом, как достойный продукт нашего литературного «сегодня», спокойно, порой даже не без благодушной величавости, в назидание мнимым декадентам или мнимым снобам, от имени новых людей, крепких, деловых, энергичных, трезвых, разумных, твердо знающих, что в романе или рассказе нужно дать сначала картинку природы с какой-нибудь «пепельно-жемчужной дымкой гор» или прочими красотами, затем обрисовать типы, ввести диалог, по возможности «сочный», с бытовыми или областными словечками, завязать интригу, кое-где оживив ее перебоями, – да, знающих все, что растолковано в учебниках словесности, о чем читают лекции патентованные «литературоведы», но не догадывающихся, что настоящая литература начинается с отвращения к учебникам, с сознания, что ничего нужного сказать нельзя, с чувства беспомощности, растерянности, отчаяния, за которым только и брезжит единственно верный, спасительный творческий свет…
Падение уровня! Да, именно, мы возвращаемся в Чухлому или в Царевококшайск, к духовному владычеству нео-Скабичевских, и что тут вспоминать Толстого или Достоевского: достаточно вспомнить любого из больших писателей нашего века, чтобы ощутить ужасающий срыв.
Несправедливо, однако, было бы все валить на новых эмигрантов. Уровень мало-помалу падает и без всякого их влияния и участия. Правда, падает по-иному, с другим оттенком и привкусом. Сказывается преимущественно то, что редеющие литературные ряды пополняются людьми, которым в прежних условиях доступ к гласности был бы не так легок, как стал он теперь.
Нормально у каждого литературного поколения должна быть смена. Как это ни странно, наше несчастье в том, что русская эмиграция обосновалась в странах с исключительно высокоразвитой, мощной и утонченной цивилизацией: именно это и лишило нас смены. Живи мы в Югославии или Чехии, русская молодежь, вероятно, стремилась бы сохранить свою «русскость», сознавая и чувствуя связанное с ней первородство. Даже, пожалуй, в Германии это было бы так… Но в Париже! Достаточно пройтись по бульвару Сен-Мишель, чтобы понять, отчего у нас нет смены: инстинктивно, безотчетно, русские молодые люди из кожи лезут вон, чтобы во всех повадках уподобиться истинным парижанам, даже и грассируя усерднее, чем полагается!
Это явление бытовое, может быть даже пустячное, но французская культура вообще импонирует русским, чему, несомненно, есть и глубокие основания. Одаренные русские молодые писатели становятся писателями французскими, и со времен Анри Труайя им уже почти что потерян счет. Смены нет, а время неумолимо делает свое дело, и на освобождающиеся места являются претенденты, которым тем легче удается на них утвердиться, что литература – как природа – пустоты не терпит.
Не хочу продолжать и развивать эти невеселые размышления, к тому же ничего нового в себе не заключающие. Уверен, например, что все сколько-нибудь чуткие к поэзии люди давно уже обратили внимание на поистине катастрофическое падение уровня и качества стихов, появляющихся в нашей печати. В большинстве случаев трудно эти произведения даже и назвать стихами. Покойный Ходасевич определял состояние ума подобных авторов словами: «не подозревает», – то есть не подозревает, что четыре строчки с описанием чувств, с рифмами на конце и с более или менее правильным чередованием ударений еще не представляют собой поэтической строфы. Не подозревает, что простота есть не начало, а венец и завершение всякой изысканности. Кстати, по поводу простоты, один из «неподозревающих» не так давно сказал мне: «я пишу просто… как Пушкин». Должен сознаться, я был настолько ошеломлен, что не нашелся ничего ответить.
Есть ли надежда на то, чтобы все это изменилось? Должны ли мы, наоборот, примириться с мыслью, что в общем европейском хоре русские голоса надолго останутся голосами, прислушиваться к которым можно только из вежливости? Вопрос вовсе не во влиянии на кого-либо и на что-либо в современной западной литературной жизни. Влияние, если и будет, то придет оно много позже, мало имея общего с участием в повседневной литературной суете сует, с премиями, сенсациями, новыми направлениями и всем прочим.
Вопрос глубже и больше: в нашей литературе отражено лицо России, в ней живет ее душа и ее сознание. Нельзя допустить их искажения, и если есть грех, который нам в истории никогда не простится, то именно этот.