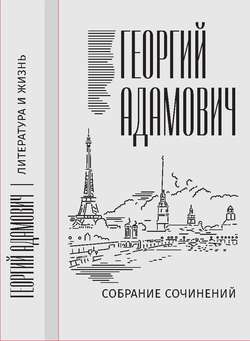Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
«Надо печататься и во Франции…»: Георгий Адамович в парижской газете «Русская мысль»
ОглавлениеПосле окончания Второй мировой войны Париж перестал быть столицей русской эмиграции – некоторые старшие эмигранты умерли, младшие погибли, многие писатели эмигрировали в Америку. Газеты и журналы («Числа», «Последние новости»), которым критик был обязан славой, прекратили свое существование. Центром журналистики русского зарубежья стал Нью-Йорк.
Адамович печатается в новых недолговечных изданиях: альманахах «Встреча», «Русский сборник», «Орион», нью-йоркском журнале «Новоселье». С 1945 года входит в штат просоветской газеты «Русские новости», основанной бывшим сотрудником Милюкова А.Ф. Ступницким, где пишет статьи и рецензии о литературе и кино. Через пять лет он уходит из «Русских новостей» и начинает публиковаться в идеологически нейтральном «Новом русском слове», газете, издававшейся в Нью-Йорке еще с 1910-х гг.
Сразу после окончания войны об оппозиционном по отношению к сталинской России издании в Париже не могло быть и речи. Но в 1947 году юрист и журналист В.А. Лазаревский в противовес «патриотической» газете создал «Русскую мысль». В первом же номере учредитель обозначил позицию издания: «Смирение перед Россией, непримиримость к советчине»[1]. В состав редколлегии вошли министр внутренних дел в правительстве А.И. Деникина В.Ф. Зелеер, генеральный секретарь парижского Союза русских писателей и журналистов В.В. Полянский и бывший сотрудник «Последних новостей» С.А. Водов. Из эмигрантских писателей с первого номера в газете публиковались Б.К. Зайцев (руководил литературным отделом), И.С. Шмелев, Н.Н. Берберова. С 1954 г. постоянным литературным критиком и обозревателем «Русской мысли» стал Ю.К. Терапиано – он писал преимущественно об эмигрантских изданиях, рецензировал новые номера журналов «Возрождение», «Грани», «Новый журнал», «Современник», «Опыты», альманахов «Воздушные пути» и «Мосты», но не оставлял без внимания и творчество советских поэтов[2].
О сотрудничестве с «Русской мыслью» Адамович стал задумываться с начала 1950-х гг. Но некоторые знакомые критика были убеждены в том, что ставший «просоветским», «полумосковским» Адамович не станет работать в издании с прямо противоположными идеологическими установками. Он писал А.В. Бахраху 16 февраля 1953 г.: «Меня Люб. А. Полонская не уговаривала, нет, а просто приговорила к тому, что “конечно, вы откажетесь писать в этой газете!”. Для нее это само собой разумелось. Зайцев был будто бы у нее и говорил, почему собственно А-чу отказываться, а она махала на него руками»[3]. Призывая Бахраха принять приглашение Алданова сотрудничать в газете, Адамович намекает, что сам бы не отказался там печататься, аргументируя это отсутствием «твердокаменности в принципах»: «Меня никто в газету не приглашал. Скажу Вам правду, что, опозорившись в одном месте, почему бы не опозориться в другом? Если бы мне предложили что-нибудь выгодное и лестное, я едва ли бы ломал комедию с принципами. Но сам я закидывать удочку ни в коем случае не стану, а до сих пор никто меня туда не звал. Если Вас, хотя бы косвенно, приглашает столь почтенное лицо, как Алданов, – соглашайтесь, с сохранением достоинства и видимости раздумия и колебания. А за Вами, может быть, и я устроюсь на тепленькое литературно-театральное местечко. Честное слово, я не могу притворяться, что я столп непримиримости и общественной морали, когда мне все равно, о чем передовая статья. Вас, м.б., возмутит этот цинизм. Но я не вижу цинизма. Всякая политика – грязь, о чем есть верный афоризм у П. Валери. И я чувствую себя достаточно запачканным, чтобы играть в недотрогу»[4].
В 1954 году, после смерти В.А. Лазаревского, главным редактором «Русской мысли» становится С.А. Водов и планирует перестроить газету – сделать ее «милюковско-демократической», что не может не импонировать Адамовичу. Но, несмотря на просьбы главного редактора о сотрудничестве, критик колеблется. Как, впрочем, и некоторые «демократы», в числе которых оказались Н.В. Вольский, Б. Суварин, М.В. Вишняк, В.А. Маклаков, А.А. Поляков. Адамович советуется с Алдановым в письме от 11 февраля 1956 г.: «Я получил от Водова письмо с предложением сотрудничества и с просьбой ответить, да или нет. <…> Мне не хочется ответить Водову то, что ответили ему уже многие, но, насколько знаю, – не Вы: пусть сначала появится у Вас Х. или Y. в качестве “заложника демократии”. Каждый должен и решать, и отвечать за себя. Что на меня будут всех собак вешать, – теперь скорей слева, чем справа, – не сомневаюсь. Но меня это мало трогает. Сотрудничество в “Р<усской> м<ысли>” мне было бы скорей приятно, потому что это – Париж, а не что-то заокеанское и далекое, как другая планета. Это доводы – “за”. Есть, конечно, и против. <…> известно ли Вам что-нибудь об отношении “демократов” к “Р<усской> м<ысли>” с тех пор, как мы с Вами виделись?»[5].
Несмотря на то, что решение было принято до обращения к Алданову (об этом свидетельствует признание, адресованное А.С. Гингеру 28 января 1956 г.: «Я буду писать в “Русской мысли” после долгих колебаний, в ответ на приглашение»[6]), Адамович пишет еще одному «демократу», бывшему заместителю редактора «Последних новостей» и сотруднику «Нового русского слова» А.А. Полякову: «На Рождестве, в Париже, я два раза виделся с Водовым, теперь единоличным редактором “Русской мысли”. Вы, вероятно, слышали о его желании перестроить газету на “демократический” лад. <…> Но у него – всяческие затруднения. Все “демократы”, к кому он обращался, – в частности, Алданов, – говорят: да, pourquoi pas [почему бы и нет. – фр.], но пусть у Вас сначала появится такой-то, дабы сомнений в демократичности “Р<усской> м<ысли>” больше не было. А эти “такие-то” – Вишняк и др., даже Маклаков, – отвечают то же самое, и получается порочный круг. Водов очень обескуражен и не знает, что делать. Лично о моем сотрудничестве у меня были с ним разговоры уклончивые, и я тоже держался линии “pourquoi pas?”, без чего-либо определенного. Вчера я от Водова получил письмо с просьбой ответить: да или нет? Вот об этом я у Вас и спрашиваю. <…> Ответьте мне, что Вы на моем месте сделали бы? Тактика “пусть сначала другие” мне противна. Каждый должен решать за себя, не боясь всяких княгинь Марий Ал<ексеев>н»[7].
В ответном письме от 13 февраля 1956 г. Алданов замечает, что «заложники демократии» в «Русской мысли» уже появились – это Вольский и Суварин. И признается в том, что Суварин тоже одержим сомнениями, но уже по другому поводу – стоит ли ему уходить из газеты? Алданов пишет: «Я ему с полной искренностью ответил, что не вижу для этого никаких оснований, что теперь, при Водове, “Р<усская> мысль” очень мало отличается по направлению от “Нового русского слова”, в котором и меньшевики, и эсеры часто печатаются. Только то же самое могу сказать и Вам. <…> Вам, по-моему, теперь еще потому не очень приятно было бы отказаться, что все-таки из-за Вас (хотя Вы тут и ни при чем) Водов, очевидно, отказался от сотрудничества Глеба Струве[8]. И думаю, что все-таки в самом деле надо печататься и во Франции. Ведь живущие во Франции русские не читают “Нового русского слова”, как почти не читают и “Нового журнала”, и “Опытов”»[9].
15 марта 1956 года в «Русской мысли» появляется первая статья Адамовича «Не ко двору: Достоевский в СССР». После месяца сотрудничества в газете он с удовлетворением отмечает в письме к Алданову: «Мы думали до сих пор, что это газета правая, в нашей, гукасовской линии, а теперь сомнения нет – это “Последние новости” и линия милюковская»[10].
Сотрудничая в «Русской мысли», Адамович продолжает публиковаться в «Новом русском слове», а в октябре 1956 года просит разрешения печатать некоторые статьи в обеих газетах. Он обращается к Вейнбауму, редактору «НРС»: «Считаете ли Вы возможным помещение одной и той же статьи в “Н<овом> р<усском> слове” и в парижской “Русск<ой> мысли”? Разумеется, не о всякой статье речь. Обыкновенные отзывы, рецензии и т. п. в счет не идут. Но при сотрудничестве в двух газетах бывает иногда жаль дать статью лишь в одну из них, и невольно колеблешься: в какую именно? Никакой “конкуренции”, мне кажется, быть не может:
Нью-Йорк и Париж друг от друга далеки, и, в частности, достать в Париже “Н<овое> р<усское> с<лово>” почти невозможно, если не быть на него подписчиком. Вероятно, так же обстоит дело с “Р<усской> м<ыслью>” в Америке»[11]. Не получив ответа от редактора, Адамович заручается поддержкой Я.М. Цвибака по поводу статьи к юбилею Алданова и присылает Вейнбауму статью о московском балете с припиской: «В дальнейшем я буду считать “молчание” знаком согласия на помещение некоторых статей в обеих газетах»[12]. Статья «Московский балет» выходит и в том, и в другом издании с разницей в три дня[13].
В дальнейшем Адамович публиковал некоторые статьи в обеих газетах, но с условием: писать «не об отдельных книгах, а взгляд и нечто»[14]. Условие было поставлено Вейнбаумом, тогда как Водов не имел ничего против печатания одних и тех же статей. Но иногда критику приходилось хитрить: «Вот теперь, недели через две, мне хотелось бы написать об Алданове (скорей о человеке, чем о писателе). Куда послать? А писать две статьи и разные, но о том же, – не хочется, да и трудно. Пожалуй, я кое-что изменю в каждой, чтобы не все было одинаково»[15]
В жанре «взгляд и нечто», подразумевавшем не анализ конкретного произведения, а общие рассуждения, Адамович писал и некоторые статьи, посвященные эмигрантской литературе. В «Русской мысли», по договоренности с Водовым, с 1967 года он обозревал советские книги, а эмигрантская литература оставалась за Терапиано. Но иногда делал исключения, в чем признавался Р.Н. Гринбергу 11 июня 1965 г.: «Мне не хочется вступать в соперничество с Терапиано и вторгаться в его область. Вот на днях хочу написать о новой книге
Зайцева[16], – и Водов об этом предупредил Терапиано, – но это будут именно общие рассуждения»[17]. Об этом же Адамович пишет и А.В. Бахраху 5 марта 1968 г.: «Я твердо условился с Водовым, почти уже год тому назад, писать исключительно о советских книгах (сегодня написал о Бабореко). Терапиано крайне честолюбив, возомнил себя великим критиком – и я ему тоже сказал, что в его область, т. е. в эмигрантскую лит<ературу>, вторгаться не намерен»[18]. Впрочем, нельзя сказать, что это разделение критических пространств твердо соблюдалось – Ю.К. Терапиано неоднократно писал о советской литературе, большое внимание уделяя поэзии шестидесятников, нередко противореча взглядам Адамовича. К примеру, из поэтов оттепели Терапиано выделял Андрея Вознесенского и писал в рецензии на его сборник «Антимиры» (М.: Молодая гвардия, 1964): «Подобно тому, как футуристы стремились взорвать и поставить вверх дном все поэтическое хозяйство классиков, символистов и акмеистов, Вознесенский так же (словесная ткань, образы, ритмы, интонация), как его “Гоген”, хочет “параболой гневно пробить потолок Королевского Лувра”. Мы же, старшее поколение, видевшее прежних футуристов, поражены не столько этой кажущейся новизной и революционностью, сколько одаренностью самого “новатора”»[19]. Адамович же был убежден, что по степени «даровитости» Вознесенского намного превосходит Евтушенко: «Невозможно сомневаться: это настоящее дарование, сильное, свежее и легкое, это “Божьей милостью” дарование! <…> Талант во всяком случае первостепенный, и надо иметь “пробку вместо уха”, – как выражался Ремизов, – чтобы этого не расслышать»[20]. Вознесенский удручал Адамовича «монотонной, механической восторженностью и наивным модернизмом, который на деле представляет собой ни что иное, как литературное модничанье в духе двадцатых годов»[21].
Адамович признавался В.Д. Самарину 3 сентября 1967 г.: «Я счастлив, что оставил лит<ературную> критику, в особенности о здешних братьях-писателях. Занимался я этим долго, и осадок у меня остался в душе горький»[22]. В «Русской мысли» Адамович публиковался время от времени, без той спешки, которой требовала от него до войны газетная поденщина, и личные отношения с объектами критики теперь уже меньше ограничивали его суждения. Если раньше он мог отозваться о «братьях-писателях», руководствуясь принципом «литература проходит, а отношения остаются», не видя ничего дурного в том, чтобы перехвалить поэтов из близкого окружения, то теперь об этом можно было меньше заботиться, с большинством рецензируемых им советских авторов он не был лично знаком. Тем не менее, переживая за происходящее в советской России, Адамович не упускал возможности встретиться с каждым литератором, оказавшимся в Париже, и переписывался с А.К. Бабореко, В.И. Лихоносовым, Ю.О. Домбровским, Ю.П. Казаковым, О.Н. Михайловым, А.П. Межировым, Е.А. Евтушенко.
Адамович всегда следил за советской литературой, в которой видел «единственное по своей ценности и важнейшее свидетельство о России»[23]. Еще в двадцатые годы, пролистывая московскую периодику, замечая новых, «подающих надежды», авторов, он задавался вопросом: оправдается ли надежда? Этот вопрос поставлен им в заглавие статьи о Леониде Леонове, одной из первых его статей в «Последних новостях»[24]. «Надеялся» Адамович на то, что даровитый писатель станет «настоящим художником», к которому не будут применимы ярлыки, навешиваемые советскими и эмигрантскими критиками: «В ранних своих повестях Леонов пристально вглядывается в жизнь и никаких готовых схем не принимает извне. Он “сомневается и раздумывает” – и если теперь из последнего его романа постараемся узнать, к чему его сомнения и раздумья привели, то ответ, кажется, должен быть таков: меняются эпохи, меняется строй жизни, быт, уклад; меняется оболочка, – но человек не меняется; и вечным предметом искусства остается его душа… Когда писатель это понял и всем своим существом ощутил – к нему уже неприменимы паспортные клички “советский” или “зарубежный”. Он просто русский писатель, где бы он ни жил и законам какой страны ни подчинялся бы»[25]. Так, осторожничая, «надеясь», оговариваясь, в тридцатые годы Адамович обращал внимание на наиболее значительных советских писателей. Например, в 1939 году он открыл русской эмиграции Андрея Платонова, который к тому времени писал и печатался уже больше десяти лет[26]. Адамович писал как о знаменитостях (Б.А. Пильняк, Л.М. Леонов, М.М. Зощенко, Ю.К. Олеша, И.Э. Бабель, К.А. Федин, М.А. Булгаков), так и о менее известных советских писателях (Ю.П. Герман, Я.С. Рыкачев, Л.И. Добычин, А.Г. Лебеденко).
В предвоенные годы критик пытался понять, каким начинающий советский писатель себя мыслит в той реальности, где ему довелось существовать, находится ли в ладах с собственной совестью: «…о большей части теперешних советских писателей вовсе нельзя сказать, что они плохи или неудачны. К ним с этими эстетическими мерками нельзя подходить. Если ими бываешь возмущен, то думаешь вовсе не о литературе, а о человеке. Литература, может быть, и плоха, но человеческий облик за ней еще несравненно хуже, – и он-то и приковывает к себе целиком все внимание. <…> Борьба революции и контрреволюции давно кончилась, осталась только борьба честности и подхалимства, искренности и лжи, “добра и зла”, если угодно выражаться метафизически. И “зло” в этой борьбе побеждает»[27]. Нередко, отказываясь говорить о художественных особенностях отдельных произведений, Адамович старался рассматривать советскую литературу в целом, делая акцент на среде, в которой писателю довелось развиваться. Анализируя творчество Платонова, он замечает: «Сложись такой писатель в иной среде, внимание к нему было бы, конечно, обусловлено размерами его художественного дарования. <…> существование такого творчества в России – факт значительный сам по себе, независимо от таланта Платонова»[28]. Но некоторые советские произведения критик выделял особенно, вне зависимости от «среды», оценивая «дух» книги, ее эстетическую ценность. Так к повести Пришвина «Жень-шень» Адамович подходит с прежней оптикой, расценивая ее не как некий «советский продукт», а как литературу «высшей пробы», ту, к которой «паспортные клички» неприменимы: «Пришвин ничего не хочет доказать и ничего не проповедует. Но, разумеется, повесть его глубочайшим образом расходится с тем, что кем-то из европейских мыслителей было названо “пафосом Москвы”. Пафос Москвы – отчасти – во вражде к стихиям, в механизировании быта и мира. Пришвин же недоуменно останавливается: разве человек не может быть счастлив без машин, без “строительства”? А если может – к чему они? Не прогадает ли в конце концов человек, именно на них делая свою ставку? Из маленькой книжки вырастают огромные вопросы. На них каждый ответит по-своему. Но все единодушно признают – что маленькая книжка полна большой поэзии»[29].
В статье «Сомнения и надежды», завершающей книгу «Одиночество и свобода», Адамович, подводя итоги сталинскому периоду советской литературы, пытается ответить на собственный вопрос – оправдалась ли надежда? Выводы оказались неутешительными: «Перечитывая те пять-шесть давних книг, которые, казалось, позволяли на что-то надеяться, чувствуешь, что надежды не оправдались. Не то… Задание могло бы оказаться больше, глубже, исполнение же тронуто душком той роковой, рабской, поспешной, на все готовой русской сговорчивости, которую мы, русские, привыкли узнавать, увы, во многом, что “Русью пахнет”, в соседстве с подлинной ширью и вольностью, без всякого взаимного исключения <…>. В ранних советских книгах, при всей их литературной серости, было больше безотчетности, инстинктивного понимания всего, что происходит в духовной жизни мира, в подводных ее течениях: теперь на понимание не осталось и намека»[30].
В хрущевской России Адамович приветствует новое поколение, призывая следить за тем, во что превратится советский человек после упразднения «культа личности»: «Сейчас в России впервые начинают жить сознательной жизнью миллионы и миллионы людей, отцы и деды которых доступа ни к какой культуре не имели. Они действительно “строят жизнь”, – говорю это без малейшей иронии, – гораздо меньше считаясь с правительственными и партийными указаниями, чем мы здесь предполагаем. То, что нам надоело, их еще волнует. То, на что мы махнули рукой в уверенности, что ответа все равно не получишь, им еще кажется неотложно важным»[31]. «Человек будущего» вызывает у Адамовича не только надежды, но и опасения. Сознавая невозможность изменить мироощущение последующих поколений, Адамович констатирует, что остается только тщательно наблюдать за его становлением. Это становление, по мнению критика, во многом зависит от советской словесности, отражающей «брожение, происходящее в бесчисленных сознаниях»: «Когда новые русские поколения придут по закону природы к управлению страной, на разных постах, больших и малых, они принесут с собой то, что одушевляет их сейчас. Их важнейшее для России дело восторжествует, не может не восторжествовать, и есть все основания верить, что “сие буди, буди”, как сказано у Достоевского»[32].
Адамович не просто «вчитывается» в молодую советскую литературу и публицистику – он пытается говорить с советским читателем так, как тридцать лет назад говорил с эмигрантским. Он недоумевает, спорит, призывает задуматься над «проклятыми» вопросами, искать и сомневаться. Казалось, что после упразднения культа личности наступила возможность диалога. Но разговор состоялся не с современным Адамовичу читателем, а с читателем будущим. Статьи Адамовича в «Русской мысли» воссоздают послевоенный период эмигрантской литературы, а также предлагают посмотреть на портрет эпохи – хрущевской «оттепели» – глазами главного эмигрантского критика.
1
Лазаревский В.А. Русская эмиграция перед лицом России // Русская мысль. 1947. 3 мая. № 3. С. 1.
2
СоветскойпоэзииЮ.К.Терапианопосвящалкакобщиеобзоры, так и персональные статьи, см., например: «Антология русской советской поэзии 1917–1957» (1958. 15 марта), «Ленинградский альманах» (1958. 31 мая), статьи о П.Г. Антокольском (1958. 19 июля), Г.Н. Петникове (1961. 10 июня), Н.А. Заболоцком (1965. 30 октября) и др.
3
Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху / Публ. Вадима Крейда и Веры Крейд // Новый журнал. 1999. № 217. С. 58.
4
Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху / Публ. Вадима Крейда и Веры Крейд // Новый журнал. 1999. № 217. С. 58.
5
«…Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения…»: Предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // Ежегодник 2011. С. 444. Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944–1957) / Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2011. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. С. 444.
6
Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 280–281.
7
BAR. Ms Coll. Poliakov. Box 1. Folder 1. Цит. по: «…Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения…»: Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944–1957) / Предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2011. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. С. 450–551.
8
Редакция «Русской мысли» отказалась опубликовать статью Г.П. Струве об Адамовиче (она была напечатана через год в другом издании: Струве Г. Об Адамовиче-критике: По поводу книги «Одиночество и свобода» // Грани. 1957. № 34/35. С. 365–369). C осени 1955 г. сотрудничество Г.П. Струве с «Русской мыслью» прекращается, его следующие публикации в газете появились лишь пять лет спустя.
9
«…Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения…»: Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944–1957) / Предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2011. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. С. 447.
10
Там же. С. 455. Письмо от 13 апреля 1956 г.
11
Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. Mark Weinbaum papers. Gen MSS 106. Box 1. Folder 1.
12
Там же.
13
Русская мысль. 1956. 15 ноября. № 978. С. 4–5; Новое русское слово. 1956. 18 ноября. № 15849. С. 8.
14
Письмо А.С. Гингеру от 17 ноября 1956 г. Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 285.
15
Письмо А.А. Полякову от 19 марта 1957 г. BAR. Ms Coll. Poliakov. Box 1. Folder 1.
16
Статья вышла три недели спустя: Адамович Г. «“Далекое” Б. К. Зайцева» // Русская мысль. 1965. 7 августа. № 2344. С. 1.
17
«Поговорить бы с Вами долго и длинно и даже посплетничать…»: Переписка Г. В. Адамовича с Р. Н. Гринбергом (1953–1967) // «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 416.
18
Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху (1966–1968) / Публ. В. Крейд // Новый журнал. 2002. № 228. С. 177.
19
Терапиано Ю. Новые книги // Русская мысль. 1964. 19 декабря.
20
Адамович Г. Литература и жизнь [Стихи Е. Евтушенко] // Русская мысль. 1962. 27 сентября. № 1896. С. 1.
21
Адамович Г. О стихах Евгения Евтушенко и о русской поэзии вообще // Новое русское слово. 1966. 4 сентября. № 19536. С. 8.
22
Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. Vladimir Samarin papers. Gen MSS 295. Box 1. Folder 1.
23
Адамович Г.В. Человек в советской литературе // Последние новости. 1931. 13 августа. № 3795. С. 2.
24
Адамович Г.В. Оправдается ли надежда? // Последние новости. 1928. 12 апреля. № 2577. С. 2.
25
Там же.
26
Адамович Г. Шинель // Последние новости. 1939. 11 мая. № 6618. С. 3; 18 мая. № 6625. С. 3.
27
Адамович Г. Судьбы советской литературы // Последние новости. 1930. 23 октября. № 3501. С. 3.
28
Адамович Г. Шинель // Последние новости. 1939. 11 мая. № 6618. С. 3.
29
Адамович Г. Корень жизни // Последние новости. 1934. 21 июня. № 4837. С. 2.
30
Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 311.
31
Адамович Г. Литература для детей старшего возраста // Русская мысль. 1962. 9 августа. № 1875. С. 1.
32
Адамович Г. Облик и дух советской литературы // Русская мысль. 1967. 9 ноября. № 2660. С. 4.