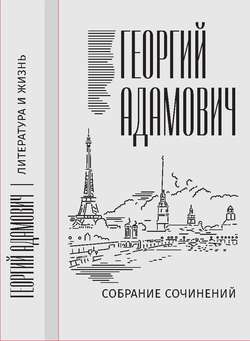Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
Розанов
ОглавлениеНа днях исполняется сто лет со дня рождения Розанова и как раз к этому сроку Чеховское издательство выпустило сборник избранных его сочинений. Простое ли это совпадение, сделано ли это с расчетом, сказать с уверенностью не берусь. Но досадно было бы не воспользоваться случаем поговорить о своеобразнейшем и удивительном писателе, стоящем в нашей литературе совсем особняком, ни на кого не похожем, в своем роде единственном.
Редактор сборника Ю.П. Иваск утверждает в предисловии, что Розанов «русскому читателю почти неизвестен». Утверждение едва ли верное. Конечно, читатели существуют всякие, и если Иваск имел в виду тот их тип, который обычно определяется как «широкий», он прав. Но тогда к писателям неизвестным пришлось бы причислить и авторов столь знаменитых, как Чаадаев, Хомяков, Герцен, Леонтьев, Влад. Соловьев, многих других. «Широкая» публика знает и о них только понаслышке.
Если же иметь в виду людей, способных ценить не только внешнее – занимательную беллетристику, людей, достаточно проницательных, чтобы понимать и чувствовать, что можно быть большим художником слова, ни к каким вымыслам не прибегая, если иметь в виду читателей просвещенных и требовательных, еще не совсем у нас переродившихся, то упрекнуть их в безразличьи к Розанову никак нельзя. Скорее наоборот: на Розанова возникла у нас мода, внимание к нему растет, и дошло чуть ли не до того, что его ставят в один ряд с Паскалем, одним из гениальнейших людей, когда-либо существовавших. Правда, книг Розанова нет в продаже, а в советской России не возникает вопроса о том, чтобы их переиздать. Но это препятствие преодолимое. Достать, хотя бы на время, розановские сочинения при желании не слишком трудно, и так или иначе многочисленные поклонники его с главными его писаниями, по-видимому, ознакомились.
Сборник составлен Иваском довольно причудливо. Из целого ряда розановских книг взято по несколько глав, а то и по несколько страничек. Последовательности и связности в развитии мыслей у Розанова вообще было не много, но при чтении сборника впечатление, будто беседуешь с человеком, который болтает без умолку обо всем, что придет ему в голову, возникает не раз. Особенно к концу. Жаль, что сравнительно мало взято из «Темного лика», самой содержательной и важной книги Розанова, самой страстной и глубокой, той, в которой он свой ужас перед аскетической сущностью христианства – втайне для него неотразимо-прекрасной и влекущей, – выразил с наибольшей силой. В «Темном лике» нет еще расслабленно-говорливого интереса к самому себе, прорвавшегося в «Уединенном» и особенно в «Опавших листьях». В «Темном лике» Розанов как будто в последний раз собрал остатки мужества, и великий свой словесный дар обратил не на отрывочные, щемящие, растерянные записи о том, как ему страшно жить и сколько в его жизни боли, а на размышления о предметах, которые могли бы его от страха и боли спасти, по крайней мере отвлечь.
Потом пришла сдача, пожалуй, именно расслабление. Успех «Уединенного», очевидно, побудил Розанова собрать в «Опавших листьях» многое такое, что иначе как болтовней назвать нельзя, – правда, вперемежку с признаниями, которые и через сорок лет нельзя забыть хотя бы потому, с какой простотой и волшебной точностью они выражены, какую вереницу полумыслей, полу-чувств вызывают они в ответ.
«Я не хочу истины, я хочу покоя».
Помимо смысла этого утверждения, о котором можно бы написать целый психологический трактат – ведь как сказано! Вот в том-то и обнаруживается настоящий, прирожденный писатель, что не только обращает внимание на значение слов, но попутно чувствует свежесть их, взаимное их притяжение или отталкивание, случай и место, где данное слово нельзя было бы заменить никаким другим. Иваск в предисловии проводит параллель между Розановым и покойным Г.П. Федотовым. Согласен, Федотов был очень даровитый, очень умный человек, но как писателя его невозможно с Розановым и сравнивать: у Федотова – блестящие, гладкие, безупречно построенные периоды, неожиданные сравнения, яркие эпитеты, т. е. все то, что на первый взгляд и необходимо для репутации перворазрядного стилиста. И действительно, он был превосходным стилистом…
Но писатель, так сказать, «Божьей милостью» – совсем другое дело, бесконечно более редкое, много труднее разложимое и объяснимое, и неужели при чутье к слову не ясно, что блестящие страницы Федотова, все вместе, не стоят одной фразы об «истине и покое», – приблизительно так же, как все великолепное красноречие Владимира Соловьева превращается в словесный прах и мусор рядом с одной угловатой фразой Толстого, где секрет неотразимого действия тоже не в блеске, а во внутренней силе, в убеждении и безотчетной верности интонации.
По качеству словесного дара из наших новых писателей-эссеистов или философов с Розановым вообще никого нельзя сравнивать. Кого вспомнить из прежних? Леонтьев, Герцен… Но у них, у Герцена в особенности, чувствуется иногда, что то или иное сказано «для красного словца». Герцен, при крайней грамматической неряшливости и богатейшей словесной находчивости, сам собой порой любуется. Розанов, не менее неряшливый и даже возведший неряшливость в стилистический принцип, подкупает единственной своей способностью создать впечатление, что слово возникает под его пером само собой, в полнейшем соответствии с мыслью, без всякого между ними расстояния. Насчет его писательской непосредственности были высказаны, как известно, сомнения, в частности Зинаидой Гиппиус. Не знаю, была ли в них хоть малейшая доля основания. Трудно поверить, чтобы подделка могла оказаться настолько совершенна.
Розанова невозможно читать спокойно. Он сам был исключительно беспокойным человеком, и у читателя вызывает тревогу, смущение, кое-где недоумение, стремление возражать, а иногда и чувство, похожее на желание распахнуть окно, глотнуть чистого, легкого, холодного воздуха после всей его сонной одури, после той запальчивой апологии обывательщины, которой он порой предается… В сущности, не раз он оказался бы на границе пошлости, не будь в нем мучительного раздвоения и способности откликаться на все, что плачет, страдает, томится или гибнет. Отсюда и двоящееся его отношение к христианству, «душераздирательное», по его собственному определению. Как он на христианство ни восставал, ранен и уязвлен он был им от рождения.
Нет писателя, к которому меньше бы подходило слово «учитель», по Гоголю, от писательского звания не отделимое. Какой Розанов учитель! Смешно представить себе его в этой роли. Но в беспредельной откровенности своей, притом усложненной известным лукавством и хитрецой, в двуличье своем, неотделимом от непрерывного духовного пламенения – «как свеча перед иконой», – в каких-то своих плотоядных причмокиваниях и пришепетываниях, во влечении ко всему телесному, плодовитому, густо-житейскому, вместе с безошибочно-жадным слухом ко всяческим небесных вздохам, Розанов – не учитель, нет, а человек, который, может быть, первый в мировой литературе сумел рассказать о себе без прикрас, не то что сорвав с себя маску, а как будто и не подозревая, что в литературе маски распространены. В этом и величие, и ничтожество Розанова.
Несомненно, рядом с такими писателями, которые возвышаются, как глыбы, над остальным, заурядным, человечеством, он кажется мелок. В нем и было что-то мелкое, в нем сидел как будто персонаж из «Мертвых душ» или какой-нибудь Фердыщенко или Лебядкин, притом склонный идеализировать свое состояние. Но эта мелочность приняла у него чуть ли не богоборческие размеры, он на ней обосновал свой пафос и ей же наполнил страстную, самоубийственную тяжбу свою с «Судьей мира» – название замечательной статьи в «Темном лике», к сожалению, в сборник не вошедшей, – сознавая, конечно, что восстает на то, что ему дороже всего. Притом ум у него был очень зоркий, он свои слабости видел, но не хотел их скрывать, под старость утратив всякую сдержанность. В «Опавших листьях» это нередко бывает тягостно.
Только к концу жизни, после революции, представлявшейся ему тем более ужасной, чудовищной катастрофой, что в ходе русской истории он для нее не находил оснований, Розанов опять окреп, свернулся, съежился, и написал «Апокалипсис нашего времени», нечто вроде своего завещания, и написал так, как именно и пишутся завещания: с намерением передать людям все, что в душе его уцелело после отбора золота от побрякушек.
В целом, с бесчисленными «за» и «против», которые при чтении возникают в сознании, – явление удивительное. Да, бесспорно, были писатели неизмеримо более значительные, и если уж вспомнился Паскаль, то надо еще раз сказать, что до Паскаля Розанову – как до звезды небесной! Паскаль – кремень, алмаз, о который душа может разбиться, может и обточиться, но лишь при условии ответного посильного напряжения. При чтении Паскаля становится самого себя совестно, своей серости, своей слабости, своих ежеминутных сделок с жизнью, – как и при чтении Толстого. Для Розанова характерно то, что он не требует от читателя ни малейшего усилия, умственного или нравственного. Он тревожит сознание, но не ждет от него никакого взлета, будто на этом и строя свои расчеты на усталое читательское сочувствие, которого явно и с болезненным нетерпением ищет. «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти, – вскользь говорит он о самом себе. – Мне всегда холодно». Его пугает грубость, суровость и безразличие мира, и в сущности, в последнем своем преломлении, откровенность его только на то и направлена, чтобы во всеуслышание сказать, что каждый человек достоин жалости, а он, Василий Васильевич Розанов, комок нервов, существо с кровоточивым сердцем, больше всех других.
К сборнику «Избранное» Юрий Иваск дал большое предисловие, в высшей степени интересное и кое-где Розанову «созвучное», как принято теперь выражаться. При беглом просмотре оно может показаться несколько капризным, даже манерным в скачках мысли, в непривычности и зыбкости речевых оборотов. Но в предисловие это стоит вчитаться. Даже при невозможности с Иваском согласиться, – что лично мне пришлось отметить в суждении о Федотове, – ценно то, что думает он по-своему, а не по чужой указке, и высказывает иногда соображения чрезвычайно тонкие, будто одну обманчиво-цельную мысль удалось ему расщепить на множество составных частей.