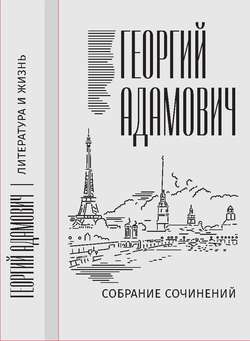Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
Скиф в Европе
ОглавлениеПовесть Романа Гуля «Скиф в Европе» – очень интересная книга на очень интересную тему. Интерес исторический сплетается в ней с психологическим, сплетается неотделимо, нерасторжимо, по той причине, что люди, о которых Гуль рассказывает, если и не «творили» историю, то все же на ход ее влияли. Подзаголовком к книге даны два имени – Бакунин и Николай Первый. Имена сталкиваются, сшибаются, как было это сто лет тому назад, и любопытство сразу возбуждено.
Повесть свою Роман Гуль написал по образцу тех «художественных биографий», которые стали в наш век распространенным литературным жанром. По-видимому, забота художественная была у него даже на первом плане: действие развивается скачками, исторические эпизоды то освещены исключительно ярко, то, наоборот, оставлены в полутени, кое-где вступает в свои права и воображение, – словом, с историческим материалом у автора обращение своенравное и властное. Да и самый стиль его, нервный, прерывистый, до крайности «импрессионистический», не похож на стиль и язык исторического исследования.
Главы о Николае и Бакунине идут параллельно. Два этих человека в жизни никогда не встречались, и как ни заманчиво было бы для романиста сцену их свидания представить, на такие «эксцессы», превращающие повествование в сказку, мало кто решается (впрочем, недавно я видел в газетах отчеты о книге, где Наполеон, бежав со св. Елены, подготовляет в Париже свою реставрацию). Гуль от основных фактов не отступил, и хорошо сделал, что не отступил. Царь и бунтарь у него представлены в рамках точных, или, по крайней мере, – правдоподобных.
Николаю I в нашей литературе не повезло. Два гиганта, Лев Толстой и Герцен обрушились на него с такой ненавистью (у Герцена почти что патологической) и притом с такой силой, что образ его врезался в память, как образ всероссийского жандарма, тупого, самоуверенного и безгранично-жестокого. Вполне ли это верно? Я задаю себе этот вопрос, зная, как в наши дни легко и легкомысленно оправдывается, даже возвеличивается в русском прошлом все реакционное, и не имея ни малейшего желания по этому пути следовать.
Но с Николаем Первым дело не так просто, как иногда кажется, и по всем данным, частично оставшимся недоступными для современников, человек это был незаурядный, а главное – одушевленный истинным стремлением к служению России на царском посту (вопреки тому, что сказал о нем Тютчев). Несомненно, был в нем и солдат, «прапорщик», по Пушкину, и страной он не столько управлял, сколько командовал. Была в нем заносчивость, непомерная гордость, сказывалась и узость общего кругозора, недостаток образования, недостаток «культуры», как выразились бы мы теперь. Но все-таки это был человек, если и не великий, то понимавший, чувствовавший сущность и природу государственного величия, человек, игравший свою роль не как обреченный, а как судьбой к ней предназначенный, – особенно в конце жизни, перед Севастополем и во время него, когда все вокруг разваливалось и он сознавал, что вину за развал не вправе ни на кого сваливать.
Знает ли, помнит ли читатель те удивительные, литературно-великолепные страницы в мемуарах Сен-Симона, где рассказано о смерти Людовика Четырнадцатого? Кое-что общее в этом рассказе с концом Николая I есть: одиночество, печаль, твердость в неудачах. Людовик, «Король-Солнце», тоже не был гением, хотя, вероятно, с помощью льстивого окружения тоже склонен был гением себя считать, но умирал он с величавым достоинством, – а ведь разваливалось в его делах и в его системе все с не меньшей очевидностью, чем в николаевской России, и предлог для малодушия нашелся бы. Сен-Симон его терпеть не мог, но тут уступил, нашел слова правдивые и беспристрастные. Беспристрастия должен бы дождаться, наконец, и Николай Первый. Не случайно же он оставил по себе у большинства лично его знавших память как о «настоящем» царе, не случайно произвел на современников такое впечатление! Маклаков рассказывает в своих воспоминаниях, как он был поражен, когда студентом впервые прочел Герцена: вырос он в окружении вовсе не исключительно консервативном, но и в этой среде привык слышать о Николае отзывы, не похожие на суждения герценовские. Маклаков не знал, кому верить, отцу ли, другим знакомым людям прошлого поколения, – или Герцену? Из русских царей еще большее впечатление на современников произвела, пожалуй, только Екатерина, хотя она совсем другими способами этого достигла, да и была совсем другим, бесконечно более гибким человеком[35]*.
Роман Гуль в обрисовке царя следует Герцену и Льву Толстому. Приводит он даже ту знаменитую, и что говорить, действительно ужасную резолюцию, – «Слава Богу, смертной казни у нас нет, и не мне ее вводить. Провести двенадцать раз сквозь тысячу человек», – которая приведена и в «Хаджи-Мурате».
В «Скифе в Европе» Николай – человек взбалмошный, гневливый, ограниченный, словом самодур и «прапорщик» до мозга костей. Но под конец повествования, там, где факты говорят сами за себя, возникает некоторое психологическое противоречие: в соответствии с тем представлением о царе, которое складывается при чтении первых трех четвертей книги. Николай должен был бы доставленного в Россию Бакунина немедленно повесить. Но царь, – правда, заключив «мерзавца» в крепость, – предложил ему написать свою «исповедь», а прочтя написанное, сказал: «он умный и хороший малый». Об этом рассказано и в «Былом и думах», и у Герцена, так же, как теперь у Гуля, получается тут явная неувязка. Кое в чем, однако, Гуль с Герценом расходится. Никогда специально Бакуниным не занимавшись, я не берусь судить, на чьей стороне историческая правота. По Гулю, разъяренный царь требовал сначала от саксонского, затем от австрийского правительств выдачи государственного преступника. На докладах о Бакунине Николай будто бы кричал: «Достану и за границей!», не допуская и мысли, чтобы кто-нибудь смел его ослушаться. А Герцен пишет: «Австрия предложила России выдать Бакунина. Николаю вовсе не нужно было его, но отказаться он не имел сил».
К главному своему герою автор «Скифа в Европе», по-видимому, чувствует симпатию, вглядывается в него со вниманием и дает яркий его портрет: «всемирный смутьян», революционный романтик, мечтатель, трибун, а немножко и болтун. Не он первый испытывает к Бакунину влечение, не он и последний, конечно! Однако если Гуль хотел передать свое чувство и другим, то напрасно включил в повесть отрывки из «исповеди», документа отвратительного, пусть и вызвавшего у Николая замечание об «умном и хорошем малом». Бакунин по своему признанию, – впрочем, вызывавшему и сомнения, – хитрил и царя перехитрил. Но когда он много позднее, бежав из Сибири, говорил об этом в Лондоне все с тем же Герценом, то солгал, будто написал нечто вроде газетной «передовой статьи», с рассказом о событиях, в которых участвовал. На самом деле эта «передовая статья» была покаянным воплем, мольбой о прощении, раболепнейшим объяснением в любви и верноподданнических чувствах.
Как известно, бакунинская исповедь была обнародована только в 1919 году, Ленин, унаследовавший от Маркса неприязнь и пренебрежение к Бакунину[36]*, опубликовал ее, вероятно, не без удовольствия. Но на старых революционеров, типа Веры Фигнер, она произвела впечатление угнетающее. Приходится удивляться, что эта «исповедь», вероятно, забытая, так долго пролежала в прежних архивах без того, чтобы кто-нибудь догадался ее напечатать! С охранительно-полицейской точки зрения это ведь был документ полезнейший: «смотрите, вот ваш кумир Бакунин, полюбуйтесь-ка, что он писал царю и как перед ним пресмыкался!» На иные горячие головы это был бы ледяной душ.
Передавать содержание «Скифа в Европе» незачем: достаточно указать, что действие приурочено к концу сороковых и самому началу пятидесятых годов прошлого столетия, когда чуть ли не вся Европа была охвачена революционным пламенем и, казалось, должна в нем сгореть. Мелькает множество исторических лиц, в том числе Рихард Вагнер, не без изумления слушающий неистовые речи Бакунина о близкой и неминуемой гибели цивилизации, науки, искусства, в котором единственное исключение он согласился бы сделать для бетховенской Девятой симфонии (рафаэлевской Сикстинской Мадонной он, как известно, при наступлении пруссаков на Дрезден предложил рискнуть, как щитом!). Появляется и Полудинская, женщина безнадежно и безответно любившая Бакунина.
Я уже сказал, что в общих чертах историческая достоверность в повести соблюдена. Но попадаются и странные несообразности: в Париже, например, Бакунин с Герценом иронически беседуют о благословении, присланном папой по «электрическому телеграфу» французской императрице по случаю рождения у нее сына. Ко времени, когда Луи Бонапарт был провозглашен императором, Бакунин давно был в России, а когда родился так называемый «императорский принц», единственный сын Наполеона III, то по повелению Александра II Бакунин был переведен в Шлиссельбург и никаких бесед с Герценом вести не мог. Что это, вольность нарочитая, умышленная, как иногда бывает в «художественных биографиях»? Допускаю это предположение потому, что Гуль эпоху изучил основательно и промах столь очевидный с его стороны маловероятен.
В книге чувствуется скрытый пафос, какой-то личный свободолюбивый, взволнованный «message», и посвящение ее «венграм, павшим в 1956 г. в борьбе за свободу Европы» это впечатление усиливает. Может быть, и подчеркнутая суровость в отношении Николая I должна быть объяснена тем, что и он, Николай, венгров «усмирял», и что в сознании автора «Скифа в Европе» далекое прошлое оказалось связано с настоящим. По-видимому, так. Эпиграфом к книге Роман Гуль взял блоковских «Скифов», которые приведены полностью. Надо признать, что в качестве введения в повесть о славянском «мессии» Бакунине это выбор чрезвычайно удачный, хотя положение и изменилось, и у Блока скифство настроено миролюбиво, скорей обороняясь, чем нападая. Но родство есть. Конечно, в те годы, когда Блок писал «Двенадцать» и «Скифов», Бакунин был ему близок, «созвучен», и во многом, что он тогда говорил, как в призыве «слушать музыку революции», был оттенок бакунинский, мятежный, пусть и без бакунинского ликования.
Если не ошибаюсь, это ведь именно Бакунин советовал своим друзьям гегельянцам «искать в революции Бога»: слова совсем блоковские, по духу, по складу. Ответ напрашивается сам собой, и, пожалуй, Блок, в отличие от Бакунина проверявший свои слова жизнью, болезненно отзывавшийся на отрыв слов от дела, пожалуй, Блок, после своего недолгого и горестного бунтарского опыта, с таким ответом согласился бы: искать Бога можно во всем, значит можно и в революции. Но найти Его в ней нельзя.
35
Два слова о Екатерине. Покойный М.А. Алданов встречался в начале эмиграции с некоторыми членами императорской фамилии и при своем страстном интересе ко всем историческим мелочам, ко всему, что только представители династии и могли слышать от своих отцов и дедов, наводил разговор именно на «фамильные» темы. Стоило, однако, назвать ему имя Екатерины, как на лицах собеседников отражалось смущение, ответы становились сдержанны и уклончивы. Алданов не раз мне об этом рассказывал и добавлял: «У меня сложилось впечатление, что для дома Романовых, вероятно, по очень давней, более чем столетней традиции, воспоминание о Екатерине – нечто вроде воспоминания о семейном скандале, о котором не принято говорить». Если догадка Алданова была правильна, – подчеркиваю, однако, что он высказывал ее именно как догадку, без твердой уверенности, – то потомки «северной Семирамиды» оказались к ней по меньшей мере несправедливы. Разумеется, основания для смущения были, «скандал» был, особенно в последние, зубовские годы Екатерины: об этом сохранилось слишком много свидетельств и воспоминаний, чтобы могло существовать два мнения. Но понятия семьи и династии – понятия разнородные, и какова бы ни была частная жизнь Екатерины, она для блеска, славы и престижа династии сделала больше, чем кто бы то ни было. Недаром Фамусов, рассказывая о своем царедворце-дяде, который провел «век при дворе», чуть ли не с благоговением добавляет: «И при каком дворе! Тогда не то, что ныне! При государыне служил Екатерине». Да и Ключевский в своей знаменитой, и действительно превосходной, юбилейной статье, написанной к столетию со дня смерти Екатерины, в общем довольно сурово оценивая ее государственную деятельность, под конец говорит о ее «всесветной славе», отбросившей лучи и на ее окружение, о том, что Екатерину «любили, как любят артиста, блестяще исполнившего свою роль».
36
* Неприязнь и презрение – вполне взаимные – Маркса к Бакунину доходили до того, что в своей «Новой Рейнской газете» он намекнул, будто неукротимый бунтарь ведет игру двойную и доставляет сведения о своих друзьях в Петербург, причем для придачи словам большего веса Маркс сослался на Жорж Занд. Та возмутилась и немедленно опровергла сообщение. (Приведено в обстоятельной французской работе о Бакунине русского автора Б. Гепнера.)