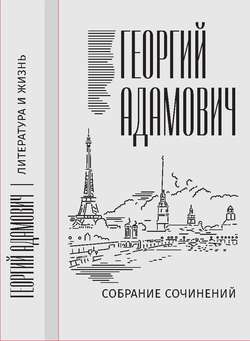Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
Зощенко
ОглавлениеНикто не считал, никто, кажется, не называл покойного Михаила Зощенко большим писателем. К нему в самом деле не идет такое определение. Написал он сравнительно немного, кроме коротких рассказов в его литературном наследстве нет почти ничего, – какой же это большой писатель? В поэзии можно прослыть «большим», оставив один небольшой сборник, «книжку небольшую томов премногих тяжелей», как сказал Фет о Тютчеве. Но к прозе установились требования иные, и даже Чехову звание «большого» далось не легко и не сразу.
Не будем о титулах, рангах и званиях толковать или спорить. Вполне возможно и даже вероятно, что дарование Зощенко было невелико по размеру, по широте охвата. Но это было дарование редкого качества, это был талант «чистой воды», и едва ли будет ошибкой сказать, что у нас еще далеко не все отдают себе в этом отчет. Зощенко был настоящим, прирожденным писателем, у него был свой стиль и была своя тема.
Два слова прежде всего о теме, о «своей» теме.
«Свою» тему можно выдумать, или, вернее, изобрести, и тогда ей – грош цена. Бывают писатели, по малодушию боящиеся быть похожими на кого-либо другого, оригинальничающие во что бы то ни стало и выдумывающие ряд образов, которых до них не существовало. Это может оказаться любопытно, забавно, интересно, – но и только. Мало ли что можно выдумать? – хочется возразить, читая такую книгу. Какое мне дело до иных выдумок, ни на чем не основанных и никуда не ведущих? Какой в них смысл? Книга в лучшем случае, даже при изощренном литературном мастерстве, только развлекает и по существу только на умственное развлечение рассчитана.
Но если тема найдена, а не выдумана, если у писателя оказалось достаточно чутья, внимания и слуха, чтобы уловить то, что носится в воздухе, что подсказано временем, если при этом он действительно оказался сыном своего времени, без нарочитой подделки, без комедианства и позы, скорей всего безотчетно для самого себя, тогда дело развлечением не исчерпывается. Об этом есть несколько очень верных замечаний у Достоевского в «Дневнике писателя», по поводу Байрона, который потому и потряс сердца современников, что носившуюся в воздухе тоску и разочарование уловил и облек в образы. Зощенко тоже что-то нашел, пусть это «что-то» и кажется на первый взгляд мелким, смешным и жалким.
Кто его постоянный герой? Чуть ли не через все зощенковские рассказы проходит образ растерявшегося, сбитого с толку человечка, который из одного неловкого положения попадает в другое. Вокруг происходят огромные, грозные, не совсем понятные события, рушатся миры, возникают новые порядки, а этот человечек, внучатый племянник Акакия Акакиевича, только, пожалуй, похитрее, чем был его предок, более смышленый, порой даже плутоватый, мечется, суетится и никак не поймет, что к чему и как ему в этом неприветливом и неуютном мире ужиться.
Я говорю, что Зощенко нашел тему. Да, нашел, а не выдумал, и если бы нужны были доказательства, достаточно было бы сослаться на двух-трех других писателей, не русских, а чужеземных, которые сделали приблизительно то же открытие, хотя и в другом преломлении. Франц Кафка, например. Едва ли это был художник гениальный, каким теперь принято его считать, особенно в «передовых» литературных кругах. Но его глубокое влияние на многих новых писателей, конечно, не случайно: оно основано на том, что Кафка уловил тему беспомощности, бессилия, бесправия и растерянности человека в грозных теперешних жизненных условиях, – еще более грозных, по его предчувствию, в недалеком будущем. Но ведь тема Зощенко совпадает с темой Кафки, правда, при том различии, что трагическую окраску ее он заменил комической или, если лучше вглядеться, трагикомической: иначе он в советских условиях поступить и не мог, а может быть и не хотел. Вполне возможно, что напряженность, эмоциональная и интеллектуальная сосредоточенность Кафки, трагизм Кафки были ему не по силам. Не знаю, не берусь гадать. Но недоумение Зощенко – того же порядка, и за какой-нибудь его смехотворно-растерянной интонацией – «посудите, братишечки, что же это в самом деле за обидная конъюнктура образовалась?» – скрывается то же бессилие и готовность биться головой о стену. Он единственный в советской литературе, и даже, пожалуй, во всей новой русской литературе, эту «стену» разглядел, он один почувствовал и по-своему выразил бесчеловечность наступивших и наступающих времен.
Есть у Зощенко еще родство, правда в духовном смысле менее высокого порядка, менее почетное, чем близость к Кафке, но зато более наглядное по обилью комических черт, – ранний Чарли Чаплин. Разве чаплинский герой, в котелке, в брюках не по росту, с зонтиком в руках, с недоуменно поднятыми бровями, разве это не брат зощенковского братишечки? Перенесите его в первоначальную советскую обстановку, представьте себе его в фойе Мариинского театра угощающим не в меру проголодавшуюся «аристократку» пирожными, – сходство обнаружится несомненное! Должен признаться, я не очень люблю Чаплина, всегда помню жестокую, и в сущности справедливую, строчку Ходасевича о скуке и раздражении «пред идиотствами Шарло», но нельзя же отрицать, что Шарло этот тоже попал в цель и находчиво ответил тому, что ответа ждало. Всемирный успех его иначе было бы трудно объяснить.
А что еще хорошо у Зощенко, помимо безошибочно уловленной основной темы? Было бы уместно и убедительно привести ряд его словесных находок, остроумнейших и неожиданных словосочетаний, – хотя бы вроде такого, например, восклицания: «шумел, шумел, ну и схлопотал себе по морде!» Всякий, вероятно, усмехнется, прочтя такую фразу. Но усмешка усмешке рознь: здесь – ключ к целому бытовому «комплексу», здесь с помощью двух-трех слов будто переносишься в уличную советскую обстановку, видишь и чувствуешь среду, о которой тщетно пытаются нам рассказать наблюдатели, казалось бы, более серьезные и обстоятельные. Полстранички Зощенко дает иногда в этом отношении больше, нежели целый том путевых записок и наблюдений. Предвижу возражение, которое, впрочем, не раз уже и слышал: да, мол, согласен, забавно, но как все это вульгарно, как грубо! Что же делать! О маркизах надо рассказывать одним языком, о братишечках – другим.
По существу, Зощенко груб не бывает никогда. В самом смехе его неизменно и отчетливо звучит гоголевское дребезжание, большинству других русских юмористов, – скажем, аверченковского типа, – чуждое или недоступное. Смех ведь бывает всякий, и нет причин считать обязательным смешение веселости и печали. Но если это и не обязательно, – художественно не обязательно, – то, пожалуй, только для других литератур, для других стран, не для России: после Гоголя от смеха раскатистого, жирного, плотоядного, смеха «во всю глотку», раблезианского склада, становится как-то не по себе! Гоголь отбил у нас охоту и вкус к нему, да и русский язык что-то плохо с ним мирится. «Что французу здорово, то русскому смерть», можно было бы сказать. Вспомните хотя бы российские водевили и фарсы, российские шансонетки и анекдоты, переложенные с парижских образцов. Ужас, сплошной ужас, торжество пошлости, невыносимо, нестерпимо! Зощенко это очень остро почувствовал, гоголевской традиции он не изменил, и отчасти именно в этом его обаяние.
Я смутно помню его в Петербурге, в самом начале двадцатых годов. Он уже и тогда был болен, страдал одышкой и если поднимался по лестнице, то должен был останавливаться на каждой площадке. Под глазами уже и тогда лежали у него какие-то черные тени. Был он застенчив, молчалив и как будто сам удивлен успехом первых своих рассказов. Но как было уже и по этим рассказам не понять и не почувствовать, что это настоящий писатель, более значительный, чем многие его молодые собратья, Серапионовы братья и другие, в те годы спешно готовившие размашистые эпические полотна о революции, гражданской войне или будущем светлом социалистическом царстве?