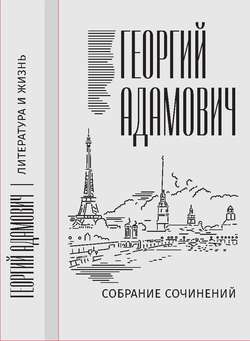Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
Задача России
ОглавлениеКнига В.В. Вейдле «Задача России» написана на темы, которые очень давно уже волнуют русских людей и едва ли окажутся когда-нибудь в их представлении исчерпанными и устарелыми. Книга эта – новый вклад в спор западников со славянофилами, спор далеко не конченный, в наше время опять разгоревшийся, усложнившийся новыми доводами «за» и «против», – хотя более полустолетия тому назад Влад. Соловьев, подводя ему итоги, считал, по-видимому, что все недоразумения выяснены и толковать больше не о чем. Вейдле тоже ищет решений окончательных и долю правоты признает за обоими лагерями. Весь тон его книги как будто внушен желанием устранить крайности, образумить спорщиков, установить порядок там, где двумя враждебными вихрями сталкивались разноречивые суждения о России и ее будущем.
В мыслях Вейдле много убедительного, несомненно верного, впервые подмеченного. Книга его – книга ценная, нужная, а кроме того выделяющаяся среди обычных российских импровизаций и открытий давно открытых Америк всем своим спокойным, истинно вдумчивым складом, своей внутренней основательностью. Но исторического спора она не заключает. Не только Соловьеву, но и чуть ли не каждому из писателей, которые этого «проклятого» русского вопроса касались, представлялось, что именно он нашел ответ, поставил в споре точку. Едва ли можно сомневаться, например, что Тургенев, – когда писал он в «Дыме» знаменитую, приводившую в ярость и содрогание Достоевского, страницу о том, что «наша матушка, Русь православная» ровно ничего не создала, что если бы «провалилась она в тартарары», в мире ничего не изменилось бы и что надлежит нам поэтому идти на поводу у Запада, никакими иллюзиями насчет особых своих миссий не обольщаясь, – едва ли можно сомневаться, что Тургенев мысленно ставил в споре точку. Нашлись люди, полностью с ним согласившиеся. Но другие недоумевали, возражали, и так как речь шла не о фактах, а о мнениях, и даже не о знании, а о вере, разногласие сделалось лишь сильнее.
В обычных человеческих спорах плохо то, что все мы, – думаю, почти без исключения, – озабочены не только самым предметом спора и поисками истины, но и своей в нем ролью. Нам во что бы то ни стало хочется быть правым, нам необходимо выйти в словопрении победителем, «посрамить» противника. А если спор страстен, запальчив, то мы хватаем через край, говорим и пишем не то, что надо бы, может быть смутно и сознавая это, но в пылу схватки уже ни о чем, кроме самой борьбы, не помня…
Вейдле никак нельзя упрекнуть в запальчивости. Он не горячится, не полемизирует, а держится как некий третейский судья, который, рассмотрев противоречивые данные, уверенно и веско выносит решение. По характеру тем и выбору их, да, пожалуй, даже и психологически, т. е. по эмоциональному составу, «Задача России» ближе всего к «России и Европе» Н.Я. Данилевского, одной из основных русских книг прошлого века, «капитальной», по определению Достоевского, книги смелой и местами глубокой. Правда, взгляды Данилевского резко расходятся со взглядами Вейдле. Данилевский к концу жизни пришел к убеждению, что «Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное», что относиться к ней нам следует «без ненависти и без любви», а все в Европе происходящее должно быть нам безразлично, как будто бы происходило это «на луне».
Вейдле лишь вскользь упоминает о Данилевском, но зато говорит о Шпенглере и Тойнби, связь которых с автором «России и Европы» не раз была отмечена. Кстати: верно ли, что Шпенглер теорию свою о существовании обособленных культур, ограниченных и смертных подобно всякому организму, заимствовал у Данилевского, как утверждают многие его русские критики? Действительно ли он Данилевского читал? Влад. Соловьев в своем разборе «России и Европы» указывал, что основные идеи этой книги совпадают с мыслями Генриха Рюккерта, полузабытого теперь немецкого историка. Не естественнее ли предположить, что Шпенглер испытал влияние Рюккерта, своего соотечественника, и лишь в силу этого оказался с Данилевским в духовном родстве? И еще, второе «кстати»: хочется выразить надежду, что в Москве, – если действительно налаживается там какой-то «новый курс», – наконец поймут, что нельзя начисто игнорировать большого писателя из-за его «реакционности», мнимой или даже подлинной. В советской энциклопедии Данилевскому посвящено пять-шесть пренебрежительных строк, с указанием, что был он «реакционным публицистом». Допустим, согласимся: реакционный публицист. Но когда же дано будет советским читателям право кое-что знать и о «реакционерах», если признано, что прошлое своей страны они знать должны? Или так и останется аксиомой, что среди русских мыслителей, не согласных с Чернышевским, Добролюбовым и людьми их склада, никого кроме пустых изуверов и мракобесов не было?
Я отвлекся от книги Вейдле, но достаточно вспомнить самое название ее – «Задача России» – чтобы найти этому и объяснение, и оправдание. Задача России: даже в чужом, даже в чуждом освещении трудно такой темы коснуться, чтобы не задеть мимоходом многого, что дремало в сознании и не уйти в сторону. По Вейдле – нет России вне Европы, как и нет Европы без России. Оригинальность его позиции в западническо-славянофильском споре может быть вкратце сведена к тому, что ему одинаково кажутся опрометчивы и тургеневское представление о единственно разумной и трезвой западной цивилизации, которой надлежит нам по-ученически следовать, и заносчивое славянофильское убеждение в нашем особом историческом призвании, Вейдле не отрицает русской самобытности. Но для него она – не только не препятствие к участию в общем великом деле, а именно условие этого участия, и даже непременное условие: нельзя быть европейцем, не будучи подлинно русским человеком, и только в русском обличии наш европеизм может оказаться плодотворен и творчески жив. Мы – не дикари, не подражатели, мы вносим свой вклад в общую сокровищницу с уверенностью, что это сокровищница наша, во всяком случае и наша, и что Пушкин или Тютчев, при всей их глубочайшей «русскости», европейцы не менее коренные, нежели Гёте, Расин или Шекспир.
У каждого писателя есть понятия, особенно ему близкие, есть слова, которые он произносит по-своему, с особым чувством. Для Вейдле такие слова – культура, Европа, притом Европа не ограниченная географическими очертаниями. Если он готов броситься в бой, «полон чистою любовью, верен сладостной мечте», то именно в бой за культуру. Перебирая великие русские имена, он оживляется, одушевляется при воспоминании о тех, в общении с которыми понятию культуры, в его незыблемо-возвышенном, благородно-уравновешенном значении, никакие передряги и катастрофы не угрожают, – прежде всего, конечно, при упоминании имени Пушкина. Полными вещего смысла представляются ему слова Герцена о петровском «вызове» России, на который она «ответила Пушкиным»…
С Толстым у Вейдле счеты труднее. Он знает, конечно, что из понятия «русской культуры» Толстого никак не выбросишь, но чувствует он и то, что для сохранения в этом понятии нужных ему черт Толстого необходимо ограничить, обезвредить. Поэтому у Вейдле Толстой прежде всего – эпический поэт, русский Гомер, «соблазненный хитростями отрицающего и доказывающего разума». В отвлеченном мышлении Толстого настоящей России будто бы маловато, она вся – в его подлинном творчестве. Даже опрощение Толстого – наполовину от его барства… Все это суждения не раз высказывавшиеся, давно знакомые и до крайности спорные. Их неожиданность, даже их неуместность в книге, богатой мыслями оригинальными, объясняется, по-видимому, тем, что при более внимательном отношении к Толстому построение Вейдле оказалось бы в опасности. Позволю себе сказать в связи с этим, что «Смерть Ивана Ильича», например, в развитии русской культуры – явление не менее великое и органическое, этап не менее важный, чем «Медный всадник», и что в «рассудочном схематизме» Толстого, в «хитростях его отрицающего разума» не меньше черт неискоренимо-русских, чем в его патриархально-бытовых панорамах. Но с европеизмом тут, конечно, что-то не в ладу, да не совсем в ладу и с Пушкиным! Критик-фрейдист отметил бы, вероятно, как характернейший «ляпсус», доказывающий рассеянность по отношению к Толстому, ту фразу, где Вейдле утверждает, что «в будущем историческом музее косоворотка и сапоги Толстого будут висеть недалеко от косоворотки и сапог Распутина». Косоворотка Толстого! Никогда Толстой косовороток не носил, и даже смеялся над Стасовым, приехавшим к нему в расшитой шелковой русской рубашке, очевидно по соображениям национально-патриотическим.
Возражений на «Задачу России» можно бы – и помимо Толстого – сделать немало. Но в короткой газетной статье их трудно развить: нужна была бы для этого книга такого же размера. Вейдле нередко сглаживает углы, кое о чем забывает – или умышленно молчит. Говоря, например, о русской интеллигенции, разрушившей былую дворянскую культуру, и утверждая, что «дворяне были одновременно и культурным, и правящим классом», а следовательно не могли быть правительству враждебны, он ни единым словом не упоминает о декабристах: пропуск, очень облегчающий построение схемы. Даже в «Медном всаднике», особенно ему дорогом и нужном, он отмечает только «восторг перед Петром, благословение его делу» и не видит другого, скрытого облика поэмы – темного, двоящегося, отразившего тот ужас перед «державцем полумира», который охватил Пушкина в тридцатых годах, когда он ближе ознакомился с его действиями и личностью.
Особенно долго следовало бы остановиться на том, что Вейдле называет «восприятием античности», т. е. на вопросе о наследстве, полученном Россией через Византию и о нашей связи с древнегреческим миром. Да, кое-что воспринято действительно было, в киевский период это было ясно… Но что было потом, каким Божьим бичом прошлись по нашей земле татары, как знаменателен, как неисчерпаемо-многозначителен тот факт, что нас не коснулось возрождение! Ницше не случайно же сказал о русских, что это – «самый неклассический народ в мире»…
Но пора кончать. А в заключение хотел бы заметить, что те книги и следует ценить, речь о которых по обилию материала и своеобразию его обработки, приходится обрывать на полуслове. Книга Вейдле – несомненно, одна из таких книг, быть же согласным с автором «Задачи России» в каждой его мысли трудно хотя бы уж потому, что мысли эти слишком близко нас, со всем нашим прошлым и будущим, задевают.