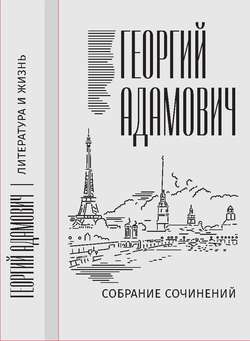Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
«Новый журнал» [№ 44]
ОглавлениеНебольшой рассказ Мих. Иванникова «Правила игры», которым открывается тридцать четвертая книжка «Нового журнала», вызвал суждения до крайности разноречивые. Говорю, конечно, о прессе «устной»: отзывов печатных было до сих пор немного, да по количественной своей скудости наша зарубежная печать и вообще не может сколько-нибудь отчетливо отразить колебания и расхождения в читательских оценках. Расхождениям политическим отдано у нас первенство, и всякие другие разногласия оттеснены ими на задний план.
Не думаю, чтобы при внимании и чутью к слову, при способности ценить самую ткань повествования, а не только то, что именно в нем сообщено, можно было отрицать, что «Правила игры» – вещь на редкость талантливая. Должна ли она всем прийтись по вкусу, оправданы ли возражения, которые можно было бы сделать «по существу», т. е. в связи с литературными методами и приемами Иванникова, – вопрос другой, и, добавлю, вопрос второстепенный.
«Правила игры» – рассказ, который, разумеется, не может нравиться тем, кому в творчестве дороги непринужденность, безыскусственность, все то вообще, что обычно определяется расплывчатым, опасным и загадочным словом «простота». Поистине об Иванникове можно было бы заметить, что он «словечка в простоте не скажет», а читатель, которого в конце концов привели бы в ужас и раздражение все его стилистические фокусы, вспомнил бы, пожалуй, и Тургенева: «воняет литературой».
Да, совершенно верно, литература эта ни на минуту не дает иллюзии, будто она литературой быть перестает, будто грань между нею и жизнью или жизненной правдивостью окончательно уже стерта. Нет сомнения, что великие наши законодатели «правдивого» жанра, Толстой и Чехов, прочли бы «Правила игры» с недоумением и даже отвращением. Но это – не довод против такого рода писаний, во всяком случае – довод не против Иванникова исключительно, а против всего, что произошло в литературе и искусстве за последние полвека, и о чем судить надо бы в целом, приняв во внимание общеисторические и общекультурные причины происшедшего.
У кого Мих. Иванников учился? Прежде всего, по-видимому, у Андрея Белого. Самая фраза его звучит, как фраза Белого, с напоминающим «Петербург» или «Котика Летаева» нагромождением диковинных эпитетов, то никчемных, то блестяще-удачных, с прерывистым, будто спотыкающимся ритмом, с язвительным юмором, подсказывающим внезапные перебои этого ритма. Мне пришлось слышать предположение о влиянии Набокова на автора «Правил игры». Нет. Набоков гораздо глаже, стремительнее, эластичнее: здесь скорей Андрей Белый, да, кстати, и сарказмы автора над интеллигентствующими «бородачами», руководителями некоего эмигрантского «Общества», с жалкими интригами, сплетнями и борьбой самолюбий, напоминают страницы Белого, посвященные московским профессорам, приятелям его отца, известного математика Бугаева. Герой рассказа – некто Радкевич, ведущий двойное существование: с одной стороны, он среди иностранцев, на службе – новейшая разновидность Акакия Акакиевича Башмачкина, готовый обратиться к окружающим с бессмертным башмачкинским вопросом: «зачем вы меня обижаете?», с другой – он видный член «общества», подкапывающийся под членов еще более видных, и сам себе представляющийся, значит, величиной, особой, персоной. «Общество» обрисовано восхитительно-метко, с первоклассной силой изобразительности, в частности – госпожа Цык, почтенная дама, много лет уже неудачно и настойчиво добивающаяся избрания в председательницы, и находящая, наконец, утешение более естественное:
«Вся ее клокочущая, вздымающая высокую грудь, пятидесятилетняя страстность обрушилась на внука Тютика, ребенка совершенно необыкновенного: он говорил уже ау, говорил уже уа, он рос не по дням, а по часам, и постоянное прибавление в весе, вровень с его ковыляющими шажками, озарялось удивительной понятливостью, проблесками будущей гениальности: и умоляющая, заумно похохатывающая Цык все просила представить себе все это, а Радкевич с учтивой ненавистью глядел на ее запудренное, колышащееся нежным жирком альтовое горло…»
Надеюсь, по этой короткой цитате читателям нетрудно будет составить себе представление об общем стиле рассказа. Отмечу в добавление к ней особый, остроумный прием, которым пользуется Иванников, вводя в речь повествовательные фразы от первого лица. Например: на собрании памяти председателя общества Цык и Радкевич «говорили речи о заслугах покойного, незримое присутствие которого все мы в настоящую минуту ощущаем, господа…» Или дальше: «Радкевич призывал вернуться памятью к тем временам, я бы сказал, животворящего беспокойства…» Это мелочи, возразят мне, пожалуй. Действительно, мелочи. Но в иных мелочах больше блеска и находчивости, чем в целом ряде добросовестно раскрашенных страниц. Здесь слышен тембр голоса, видишь человека, наслаждающегося на эстраде цветами собственного красноречия, – и хотелось бы мне закончить эти замечания о «Правилах игры» стереотипным пожеланием: будем надеяться… Да, будем надеяться, что имя Иванникова станет в нашей печати чаще встречаться, а в литературе нашей надолго удержится.
Рассказ В. Яновского «Болезнь», как обычно у этого писателя – достаточно известного, чтобы нужно было давать его общую характеристику, – драматичен по замыслу и не то что ставит, а как бы только повторяет, напоминает вопросы из разряда самых «проклятых». Случай на первый взгляд выбран самый пустяшный: русский беженец Борисов семь месяцев живет в Нью-Йорке впроголодь, без работы. «Попробуй сознаться, что ты без работы, и кроме злорадных советов, критических замечаний и дешевых поучений ничего не добьешься. Но если заявить “у меня рак или камни в почке, нужна сложная операция”, пожалуй, добьешься подлинного сочувствия, а иногда – рикошетом – и денег». Кончается, однако, все благополучно, работа получена, притворяться больным больше нет причин. У обыкновенного бытовика все бытом и ограничилось бы. Но Яновский, о чем бы он ни писал, неизменно касается того, что Блок назвал «мировой чепухой», и все его персонажи, вместе с Борисовым и другими, в сущности лишь марионетки в руках непостижимой силы, о которой он даже не знает, злая она или добрая, слепая или мудрая.
«Дело Тверитинова» Г. Альтшуллера – отрывок из книги об известном московском чудаке-вольнодумце начала восемнадцатого века. Будет ли книга издана? Судя по отрывку – «добротно», «солидно» написанному, – не говоря уж об эпохе, к которой книга относится, эпохе неисчерпаемо богатой в своем содержании, бесконечно сложной, таящей в себе корни всех наших теперешних смут, – судя по главе, помещенной в «Новом журнале», книга Г. Альтшуллера вполне заслуживает издания. Но не окончательно ли сделались теперь русские издатели «существами метафизическими», как выразился Карамзин о космополитах?
Четырнадцать стихотворений Георгия Иванова объединены общим названием «Дневник». И это действительно дневник, если угодно, повесть о чем-то очень личном, очень смутном и очень горестном. Предлог, повод к стихам Георгия Иванова в каждом отдельном случае иной, новый, но тема во всех его стихах последних лет – одна, и, вероятно, то особое, настороженное внимание, которое именно в последние годы в поэзии Иванова возникло, на этом и основано. Не так часто поэзия, полностью оставаясь поэзией, перестает быть литературой в верленовском, условном, отрицательном значении слова, чтобы можно было ею не заслушаться.
У Иванова как стихотворца мало общего с Есениным. Он прежде всего гораздо искуснее, гораздо изощрен-нее его, он больше «мастер», а в певучей своей непосредственности едва ли ему уступает. Но имя Есенина я назвал не случайно: психологически, жизненно ивановская тема близка есенинской, – разумеется, лишь к Есенину самого его последнего периода, – в том смысле, что у обоих поэзия душевной ликвидации, поэзия «обманувших надежд», поэзия «облетевших цветов, догоревших огней» уничтожила всякие иные побуждения к творчеству. Порыв возникает из-за того, что рваться, собственно говоря, уже не к чему. Параллель легко было бы развить, она была бы в высшей степени интересна, но по недостатку места я ограничиваюсь указанием на ее возможность, с уверенностью, что любители поэзии мысленно продолжат ее сами… Послевоенные стихи Иванова – замечательное явление в нашей литературе. Тихим, приглушенным, вкрадчивым голосом, с причудливым, тончайшим смешением иронии и лиризма, с какими-то неожиданно-«достоевскими», – из «Кроткой» или из «Бобка», – интонациями в мелодии, он ведет монолог, ни от кого и ниоткуда не ожидая отклика или ответа. Меньше всего от судьбы.
В. Корвин-Пиотровский, по-видимому, находится на переломе, и, оставаясь верным излюбленному своему размеру, четырехстопному ямбу, изменяет прежней «прекрасной ясности» ради туманов, намеков и умолчаний. С первых же строф, однако, чувствуется, что это именно Пиотровский, а не кто-либо другой. Каждая из них скреплена, – как сказал Теофиль Готье о Бодлере, – его личной печатью. Стихи живут, «существуют», а не выдуманы или механически сделаны. У Лидии Алексеевой тоже, кажется мне, есть данные для неподдельного литературного существования. Некоторые ее строчки сразу запоминаются. Но признаюсь откровенно, я недостаточно внимательно за Алексеевой следил, не помню даже того, есть ли у нее отдельные сборники, – и оттого и пишу «кажется»: не из критической осторожности, а лишь по недостатку оснований для суждения твердого.
Несколько интересных – или, по крайней мере, любопытных статей, – политических, философских (Н. Лосский о Бердяеве), литературных (Е. Каннак о неизвестной пьесе Чехова). Особняком стоит «Моцарт» В. Маркова, произведение, о котором можно бы, перефразируя Некрасова, сказать, что в нем «словам просторно, мыслям тесно». Три-четыре оригинальных замечания тонут у Маркова в море суждений опрометчивых, скороспелых, а порой и фактически ошибочных. Стиль статьи, к сожалению, соответствует ее внутреннему складу. Досадно видеть под ребяческими, мнимо-поэтическими красотами и эффектами, которыми «Моцарт» в изобилии приправлен, подпись подлинного поэта.
Выделю, хотя и по другим причинам, и воспоминания Е.Д. Кусковой «Давно минувшее»: образец и доказательство того, что в девяти случаях из десяти человек пишет хорошо, действительно хорошо и свободно, лишь тогда, когда не слишком этим озабочен. А что записки Кусковой полны ума, чувства и знания жизни, незачем и добавлять.