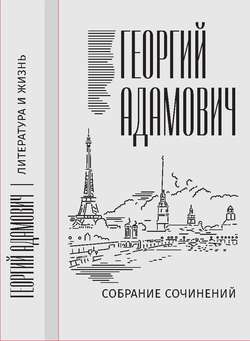Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
Против России
ОглавлениеНедавно в Лондоне, в одном из русских кружков, был устроен вечер памяти Достоевского, – вернее, была прочитана о нем лекция. Следовало бы, кстати, отметить удивительный факт: несмотря на то, что русская эмиграция в Лондоне количественно беднее, чем в Париже, собраний, докладов и вечеров там больше. В Париже были годы исключительного оживления, но с войной все это безвозвратно кончилось. Ходасевич когда-то саркастически писал о «многострадальном зале Лас-Каз», где действительно два-три раза в неделю происходили русские сборища, по характеру своему нередко оправдывавшие употребленный Ходасевичем эпитет. Но «иных уж нет, а те далече», эмигрантской столицей сделался Нью-Йорк, а Париж мало-помалу погрузился в спячку, прерываемую лишь случайными толчками. Лондон русским центром, в сущности, никогда не был, для усталости у эмигрантов-лондонцев нет оснований, и они скромно и спокойно делают дело, которое почти оставили парижане.
Итак, в Лондоне была прочитана лекция о Достоевском. Однако сказать несколько слов мне хотелось бы не о самом докладе, а о выступлениях, состоявшихся после перерыва. Некоторые из них заслуживают внимания потому, что за ними чувствовалось нечто общее, поднявшееся из темных, сбитых с толку глубин русского сознания, нечто в наши дни распространенное, настолько знакомое, что, слушая иную речь или читая иную статью, с полуслова знаешь, каковы будут заключения и выводы. По существу ничего нового ни в статьях, ни в речах такого рода нет. Было это, увы, и прежде в России, – только в наше время настроения эти обострились, осмелели, приняли форму вызова, окрасились в какие-то мстительно-торжествующие тона, а иногда имеют и другой вид: измученный, ожесточенно-нервный, как именно и было в Лондоне.
Что сказал незнакомый мне оппонент, – из новых эмигрантов, – крайне недовольный, взволнованный докладом, выступивший с тем, чтобы не оставить в нем камня на камне, и притом с русской литературой, по-видимому, довольно основательно знакомый? Начал он с того, что Достоевский – величина дутая. Людей он будто бы не знал, героев своих с их причудливой и безумной психологией начисто выдумал, и всем его потугам на глубину – грош цена.
Признаюсь, я слушал эту вступительную часть возражения докладчику с любопытством. Не то чтобы утверждения, будто «никаких Раскольниковых в настоящей жизни нет», «я по крайней мере их не встречал», были сами по себе интересны. Нет, нисколько. Заинтересовал меня человек: весь мир признает Достоевского великим писателем, а вот выходит перед аудиторией Иван Иванович или Петр Петрович и, не колеблясь, заявляет, что король-то гол! Какая непоколебимая вера в свою проницательность! Вместо того, чтобы постараться понять, что же люди в Достоевском находят, вместо того, чтобы помолчать, подумать, поискать, вчитаться – небрежное отшвыривание: я не понимаю, следовательно, понимать и нечего!
Однако пока дело касалось того, гениален или бездарен Достоевский, мы оставались в области суждений литературных. Дело пошло иное. «Пора открыто заявить, – с перекошенным от искреннего, о, несомненно, искреннего негодования лицом, и, как это ни странно, с каким-то «достоевским» исступлением в самом складе речи, говорил оратор, – пора наконец признать, что все эти наши прославленные мудрецы и пророки, всякие там Толстые, Достоевские, Некрасовы, Белинские, ничего кроме вреда не принесли. Оттого и сидим мы здесь, на реках Вавилонских, что были у нас Толстые да Белинские! Чем они, в сущности, занимались? Расшатывали русскую государственность, готовили революцию, ждали ее, как царства небесного… Ну, вот и дождались, радуйтесь! А мы здесь по недомыслию своему продолжаем их на все лады славословить! Если был в России писатель, который видел истину и сказал то, что действительно русскому народу надо было услышать, то это Гоголь в “Переписке с друзьями”. Вот об этом великом учителе и следовало бы помнить, а не о разных лже-гениях и лже-мудрецах».
Не ручаюсь, что я вполне точно передал содержание речи. Но общий смысл, дух ее был таков, и в качестве имен, ничего кроме презрения не заслуживающих, были названы именно эти четыре имени: – Толстой, Достоевский, Некрасов и Белинский. Несомненно, монархист и консерватор Достоевский был бы озадачен, узнав, что попал на скамью подсудимых вместе со страстно им ненавидимым Белинским. Но в порыве возмущения наш оратор все валил в одну кучу, да, пожалуй, и в самом деле по взрывчатой сущности своего творчества Достоевский союзником его оказаться бы не мог.
Первую часть выступления я слушал, повторяю, с любопытством. Вторую – с некоторой растерянностью: что ответить? Надо бы начать с таких азов, а затем перейти к таким прописям, что не хватило бы на ответ и двух вечеров. Когда-то Михайловского просили дать статью в защиту свободы слова. Он сказал: «Свобода слова для меня принцип настолько абсолютный, что я забыл, как его надо обосновать… мне гораздо легче было бы написать статью о чем-либо спорном, чем о том, что дважды два четыре». Мне вспомнился Михайловский, когда я слушал о русских отщепенцах – Толстом и Достоевском, Некрасове и Белинском: действительно трудно без подготовки вернуться к духовной азбуке.
В представлении людей такого склада, как данный оратор, главная ответственность за национальные бедствия лежит на Толстом. Тут вместо ответа следовало бы посоветовать прочесть давно вышедшую, замечательную по ясности и убедительности мысли, брошюру Василия Алексеевича Маклакова «Толстой и большевизм». В ней каждое слово верно. В ней навсегда дан урок тем, кто с высоты своего легкомыслия решается Толстого в чем-либо обличать.
Но вдаваться в рассмотрение нужных доводов сейчас я не стану. Отстаивать от слепой вражды великие русские имена ни к чему. Важен не самый факт, что подобные выступления в наше время возможны, важно то, что оно отнюдь не случайно и не исключительно, что это лишь частица некоего эмигрантского (а может быть, и общерусского, пока еще скрытого, – как знать?) целого, что это голос из хора, что за отдельным выступлением видна все растущая, темная волна, грозящая надолго захлестнуть самые дорогие в облике России черты, погасить ее огонь ради душка дубровинского или ждановского (что – с поправкой на историческую перспективу – почти одно и то же).
Не знаю, помнят ли читатели, хотя бы смутно, две мои статьи, помещенные в «Русской мысли» месяца полтора тому назад под названием «После войны», – о понижении культурного уровня в нашей литературе. Политическую сторону вопроса я в них умышленно оставил в стороне, хотя без политики в наше время не обходится ничего, и, хочешь не хочешь, ее вмешательство чувствуется всюду.
Не может быть сомнения, что обскурантизм, на нас надвигающийся, корнями своими уходит в почву политическую, и что советская выучка, та атмосфера, которою люди, в советской России выросшие, в течение долгих лет дышали, осложнившись жестокой, выстраданной ненавистью ко всему в самом общем смысле слова «революционному» – прежде всего к таким понятиям, как «революция», «социализм» и даже «равенство», даже «свобода», – дает сейчас горькие свои плоды. Об этом можно и надо жалеть, этому надо сопротивляться, но тяжкой ошибкой было бы ограничиться иронической усмешкой, означающей, что «это нас не касается»: мы-де люди интеллигентные, культурные, мы храним заветы, чтим традиции – и так далее.
Нет, надо растолковывать, объяснять, давать почувствовать, что если действительно в прошлом великая русская литература была с русской государственностью не в ладу, то вовсе не потому, что была она одержима каким-то нигилистическим и разрушительным сумасшествием. Она думала о человеке, о человеческой личности и ее правах, о том, каково должно быть справедливое общество, о том, чего ищет человеческая душа, и как же понять, что когда Белинский в ответ на «Переписку» Гоголя, – книгу кое в чем глубоко замечательную, но в доброй половине своей и нестерпимо лицемерную, – кричал: «Проповедник кнута, поборник мракобесия, что вы делаете?» – он прав был даже перед тем Богом, которого в своем наносном атеизме отрицал и которому Гоголь усердно молился. В те годы, когда Гоголь свою книгу писал, людей в России продавали и покупали, как вещи: казалось бы, автор «Переписки», только душеспасительными предметами и занятый, должен был бы счесть это чем-то чудовищным и безбожным. Но Гоголь ни единым словом против крепостного права не обмолвился и даже дал понять, что ничего дурного в нем не находит. Да что вспоминать!
Конечно, и Гоголь – одно из наших сокровищ, «умное, странное и больное существо», как сказал о нем Тургенев, и непростительно было от него отречься из-за невозможности во всем с ним согласиться. Ошибки, срывы, заблуждения бывали у всех, но в целом русская литература оттого и вызвала на Западе при знакомстве с ней такое волнение, что несла она с собой полузабытую на Западе моральную тоску, подъем и тревогу. Было, конечно, признание чисто художественное, но было и нравственное молчаливое преклонение перед людьми, мысли которых воспринимались как укор или упрек…
Запад в конце прошлого века узнал Толстого и Достоевского, но если бы познакомился и с тем, что писали Некрасов или Белинский, то нашел бы и у них, под поверхностной пеленой позитивизма и рационализма почти то же самое. Некрасовские рыдающие стихи, имеющие будто бы исключительно «общественное содержание», – гораздо ближе к молитве, чем любая поэма на религиозные темы: они продиктованы истерзанной совестью, они от сомнений и угрызений как бы не находят себе места, и, право, это много важнее, а в особенности много существеннее, чем то, что Некрасов издавал либеральный «Современник» и был на дурном счету у правительства.
Надо бы все-таки, чтобы русские люди поняли, что именно это – настоящая Россия и что было бы самоубийством от нее отрекаться и на нее клеветать. Но еще раз замечу, надо объяснять, растолковывать эти истины, а не считать, что кто их не признает, с тем и говорить не стоит! Незадолго до войны, на каком-то собрании один из ораторов в прениях произнес речь с антисемитскими выпадами. Председательствовавший Бердяев долго хмурился, а потом вскочил и, побледнев, сдавленным шепотом проговорил: «прошу немедленно оставить зал, здесь не чайная союза русского народа!» Реакция Бердяева была в свое время вполне естественна и вызвала шумные одобрения, но не думаю, чтобы теперь правильно было бы ею ограничиться.
В те годы казалось, что это былая, тупая, постылая российская «накипь». Но обстоятельства изменились.
Исторические условия теперь не совсем те же, что были до войны. Из советской России бежали тысячи и тысячи людей, у которых навсегда запечатлен в памяти их ужасный жизненный опыт. Даже и страх далеко еще не полностью ими изжит. Если и принесли они с собой «накипь», то несколько иного рода, другого происхождения. Нет ничего удивительного, что многие из этих людей, в судорожных поисках виновников всего случившегося, договариваются до хулы на лучшее, что Россия дала. Вслед за Розановым они могли бы сказать: «Я не хочу истины, я хочу покоя», и не сознают роковой своей ошибки, не понимают, что меняют одно рабство на другое. Надо быть милосерднее в отношении их, хотя едва ли им слово это понравилось бы: лондонского оратора оно во всяком случае окончательно бы вывело из себя.
Ну, что же, обойдемся без милосердия, без жалости! Дело ведь не в словах, а в том, чтобы уловить некую стихийность поднимающегося ослепления, общие его источники и причины, отсутствие в нем чего-либо индивидуального, и найти в себе достаточно силы, разума и чувства, чтобы помочь людям прозреть. Отвечать возмущением на возмущение бессмысленно, как ни трудно бывает иногда спокойно читать или слушать тот или иной кощунственный бред.