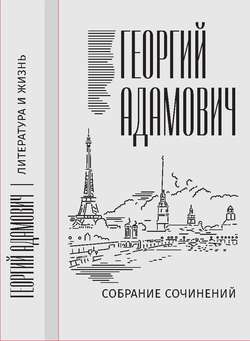Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
«Не хлебом единым»
ОглавлениеГод тому назад имя В. Дудинцева не было никому известно. Сейчас об этом молодом советском писателе говорят повсюду, и статей о его романе «Не хлебом единым» появилось в иностранной печати множество. Роман еще не переведен ни на французский язык, ни на английский, он только этой осенью был помещен в трех выпусках «Нового мира», – августовском, сентябрьском и октябрьском, – и если не ошибаюсь, даже в России не вышел еще отдельной книжкой. Сенсация в западном мире возникла понаслышке на основании слухов о впечатлении, которое роман Дудинцева произвел на советских читателей. Соответствующие номера «Нового мира» в Москве – будто бы на вес золота. Обсуждение «Хлеба единого» будто бы проходит при тысячных толпах. Молодежь ни о чем другом не говорит, а по сведениям Эдуарда Кранкшоу, обозревателя из «Обсервера», московские студенты обмениваются такими замечаниями:
– Скажи мне, каково твое отношение к этому роману, и я скажу тебе, кто ты!
– Прежде у нас была литература великой лжи, теперь возникает литература великой правды!
Сенсация на этот раз не пустая, не «дутая». Если бы нужны были доказательства, что в СССР какие-то перемены произошли и происходят, то достаточно было бы сослаться на «Не хлебом единым». Не только роман этот не мог бы несколько лет тому назад появиться, но и о попытке хоть вскользь коснуться задетых в нем вопросов не могло бы быть и речи.
Два слова сначала о чисто литературных качествах этого произведения. Роман, бесспорно, талантлив, а автор его, бесспорно, – человек прозорливый, вдумчивый, наблюдательный. По образованию он, по-видимому, техник, и обилие машиностроительных деталей в его повествовании порой утомляет и может даже отпугнуть тех, кто с этой стороной советской литературы еще не свыкся. Дудинцеву, пожалуй, не хватает писательского опыта, но зато у него есть свежесть восприятия и стиля, есть острота в психологическом анализе. Кое-где чтение «Хлеба» напомнило мне старинный роман, до крайности не популярный в эмиграции и до еще большей крайности превознесенный в СССР, «Что делать» Чернышевского, – роман, о котором следовало бы сказать, что истина в его оценке посредине: он, право, не так уж безнадежно плох, как повелось у нас здесь утверждать, он схематичен, но не бездарен. Дудинцев, как Чернышевский, склонен комментировать поступки своих героев и разъяснять то, что осталось им непонятно – впрочем, делая это с меньшей настойчивостью и назойливостью.
По первым главам кажется, что «Не хлебом единым» – один из тех советских романов на тему о торжестве добра и посрамлении зла, которым нет числа. Добродетельный, честный изобретатель, построивший новую, полезнейшую машину для выделки чугунных труб, движимый мыслями о нуждах народа и государства, наталкивается на всевозможные препятствия, интриги и козни, – и так и ждешь, что в известный момент вмешается в дело какой-нибудь сверхдобродетельный партиец, рассудит, кто прав, кто виноват, обласкает одних, покарает других, и все окончится традиционным мажорным аккордом во славу победоносного коммунизма. Да, – иносказательно внушается в таких романах, – подлецов, «рвачей» в нашей стране еще немало: но это – наследие прошлого, это паразиты, которым в советских условиях пощады нет. Вероятно, большинство москвичей перелистывали вступительные главы дудинцевского романа, считая, что развитие действия им заранее известно: короленковские «огоньки впереди», пусть и по-новому поданные, должны были представляться им неизбежными.
Но никаких «огоньков» у Дудинцева нет. Содержание его романа излагать подробно не к чему, вкратце же оно сводится к бесконечным мытарствам некоего Дмитрия Лопаткина по всяким учреждениям, институтам, стройкам и министерствам, где неизменно встречают его и его изобретение в штыки. Несчастия Лопаткина доходят до того, что попадает он в тюрьму, а оттуда на каторгу, – разумеется, по проискам недоброжелателей. Но почему отношение к нему таково? Во-первых, потому что человек он слишком даровитый, изобретение его слишком оригинально и своевременно, а следовательно при успехе обнаружит бесполезность других машин, построенных людьми влиятельными, орденоносцами, академиками, профессорами, – вроде старика Авдиева, который в каждом сопернике видит врага, подлежащего уничтожению. Во-вторых, Лопаткин – одиночка, а в советских условиях, видите ли, все, во всех областях, должно твориться коллективно… Именно тут-то у Дудинцева главная «запятая», если воспользоваться выражением Ивана Карамазова…
Как будто бы с ортодоксально-коммунистической точки зрения он провозглашает принцип приемлемый: первенство принадлежит коллективу. Но изображен у него этот коллектив в столь отталкивающем, даже страшном виде, что принцип оказывается подорван в самом основании. Следует отметить к чести Дудинцева как художника, что он не сгущает красок, не изображает каких-либо мелодраматических злодеев. Его Дроздов, например, лицо, быстро и успешно продвигающееся по службе, и к заключению повествования оказывающийся заместителем министра, – не подлец, а скорей полу-подлец, однако, как Воронцов у Пушкина, имеющий все данные, чтобы сделаться подлецом «полным, наконец». Он умен, хитер, энергичен, деловит, и к тем, кто ему не мешает, относится безразлично, даже с напускной дружественностью. Но это человек, которому «пальца в рот не клади»: личные интересы определяют для Дроздова все его поведение и всю его нравственность. Притом это вовсе не буржуазный осколок, нет, это разновидность парней «в доску своих», поднявшихся с самых низов. С низов поднялся и профессор Авдиев. Сановник Шутиков мельче, легкомысленнее, но по части волчьей морали и он не уступит никому. Галерея ярка и богата.
Люди, дорвавшиеся до власти, до хороших окладов, до автомобиля, до кабинета с глубокими кожаными креслами, оберегают свои преимущества, не стесняясь в средствах, и связаны безмолвной круговой порукой. Кандидаты на власть, на автомобили и кабинеты льстят, раболепствуют, угодничают, пока не добьются своей цели, зная, что ни до творчества, ни до народного блага никому дела нет: все это «девятнадцатый век», как в минуту откровенности говорит Дроздов, т. е. сентиментальщина, дряблый вздор. Дроздов, впрочем, не всегда откровенен и на словах любит связывать свою карьеру с преуспеянием государства. Но на практике связь эта полностью обращена к его выгоде.
Где же партия? Где ее всевидящее, недремлющее, неподкупное, высокоидейное, спасительное око? Партия отсутствует, безмолвствует, – хотя Дроздов с компанией, несомненно, тоже партийцы, даже весьма заслуженные. Роман кончается реабилитацией Лопаткина, но Дроздов и Авдиев остаются у дел, у власти, и ни в коем случае нельзя быть уверенным, что они нашего идеалиста-изобретателя оставят в покое. В последних сценах за Лопаткина страшновато. Он одинок, как прежде, и если новоявленных своих друзей сторонится, то не без основания.
В некоторых иностранных статьях о «Хлебе едином» было указано, что роман этот – обвинительный акт против всего советского государственного и социального замысла, против самой идеи коммунизма, и, в частности, мнение такое высказал уже упомянутый мною Кранкшоу, один из английских авторитетов по советским делам. Не вполне это верно, и не следует подменять своими мыслями и стремлениями мысли и стремления автора. Коммунизм как теоретическое понятие в «Хлебе» скорей возвеличен и идеализирован, чем развенчан. Сомнение насчет того, с какими отказами, с какими жертвами коммунизм, даже в лучших его формах, может оказаться связанным, автору чуждо. Как бывало в ранних, до-сталинских, советских книгах, коммунизм у Дудинцева маячит в качестве далекого земного рая, населенного безгрешными, чистыми, преодолевшими всякий эгоизм людьми. Но именно потому, что для Лопаткина-Дудинцева человек при коммунизме должен бы стать щедрее, богаче, добрее, смелее, отзывчивее, чем когда-либо, именно поэтому все его существо восстает против куцего советского официального мировоззрения, против официальной лжи, против плоской «классовой» мудрости, проповедуемой доморощенными философами, против малограмотного материализма и всего прочего.
Лопаткин страстно любит музыку. Особенно волнует его второй фортепианный концерт Шопена, да еще концерт Рахманинова, тоже, конечно, второй, столь излюбленный всеми пианистами. Но что слышится ему у Шопена, на гипсовый слепок с руки которого он смотрит с трепетным благоговением? «Страдания героя, сгорающего как комета в темном небе». Шопен именно его, Лопаткина, искал, – искал и нашел, – среди других, равнодушных слушателей в концертном зале. Шопен от него требует сочувствия и понимания. С «Азбукой коммунизма», с советским упрощенным и общеобязательным «четким взглядом на мир» эти романтические порывы, вечночеловеческие по природе своей, согласовать, конечно, трудновато, даже если бы в министерствах не засели, как полновластные хозяева, Дроздовы и Шутиковы. Когда Лопаткину указывают на расхождение его мечтаний с действительностью, он отвечает знаменательными словами:
– Я ведь и не говорю, что у нас коммунизм!
Не идеал, значит, плох в его оценке, нет, плохи люди, этот идеал исказившие. Государственная система сделалась нестерпима из-за нравственного уродства тех, в ком она воплощена и кем она представлена. Одни только лицемеры способны утверждать, что новому советскому человеку неизвестны пороки, которые прежде стирали черту между человеком и зверем. Под прикрытием звонких фраз о нуждах рабочих масс, под убаюкивающие песни о наступающем царстве справедливости и счастия, неискорененные, ужасные, беспощадные инстинкты окрепли, усилились, легче прорвались наружу, – и, в сущности, диагноз Дудинцева напоминает то, что было когда-то глубочайшим убеждением Гоголя: без личного совершенствования никакого общественного благообразия и благополучия достичь нельзя, без него все останется обманом, иллюзией и химерой.
В романе много диалогов, замечательных или, по крайней мере, любопытных. Лопаткину говорят, например, что современные коммунисты – «строящие муравьи».
– Мы, строящие муравьи, нужны… А ты, гений-одиночка, не нужен… Мы к нужному решению придем постепенно, без паники, в нужный день и даже в нужный час…
Сдерживая «закипающую вражду», Лопаткин отвечает:
– Один из этих муравьев забрался все-таки на березу повыше и позволяет себе думать за всех, решает, что народу к чему, а что ни к чему… Я тоже муравей. Но я на березу не лезу.
Если принять во внимание, что действие романа происходит за несколько лет до смерти Сталина, кто этот муравей на березе – достаточно ясно.
Читателей, вероятно, интересует вопрос, каково отношение к «Хлебу единому» в советской печати. Отзывов до сих пор было сравнительно немного, и это само по себе показательно. Критики, по-видимому, несколько озадачены и растеряны, и хотя в «Правде» было определенно указано, что Дудинцевым допущены «важнейшие ошибки», поди разбери, в чем они: может ведь это повести к «ошибкам» еще более важным! Из больших журналов статья о «Хлебе» была лишь в «Октябре», статья уклончивая, сбивчивая, утверждающая, однако, что Дудинцев показал «теневые стороны нашего недавнего прошлого» – обратите внимание: недавнего! – и что в наличии «теневых сторон» повинен культ личности, т. е. новейший советский козел отпущения. Крайнее недовольство выражено по поводу того, что Дудинцев не сумел «отделить дроздовщины от руководящих кругов нашего общества». «Пафос огульного отрицания увлек автора на ложный путь», в результате чего может возникнуть впечатление, что в советской стране «создаются условия для бесконтрольной диктатуры зла».
На этой блестящей формуле я и поставлю точку: московский критик, вероятно, сам не подозревает, до чего он договорился.