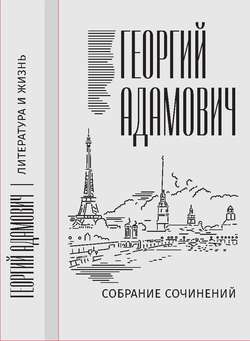Читать книгу Собрание сочинений в 18 т. Том 11. Литература и жизнь («Русская мысль»: 1955–1972) - Георгий Адамович - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)
Древняя Россия
ОглавлениеНазвание книги Ю.Л. Сазоновой – «История русской литературы. Древний период» – может отпугнуть читателя «рядового», малосклонного к тому, чтобы снова чему-либо учиться или вспоминать полузабытые имена, годы, события, содержание словесных памятников.
Это и в самом деле история, т. е. прежде всего школьное руководство. Но написана книга с такой непосредственностью и с таким увлечением, что с первых же страниц забываешь о ее образовательных целях и с головой уходишь в мир далекий и вместе с тем близкий, мертвый и живой, таинственно глубокий, неисчерпаемо богатый.
Среди появившихся в печати отзывов о книге Сазоновой были статьи, где преимущественно отмечались неточности и отдельные мелкие ошибки, допущенные автором. Не будем спорить, неточности указаны были верно (хотя и с явно преувеличенной настойчивостью, а порой и раздражением). Но ошибки можно исправить, – поставив, например, в ближайших изданиях вместо одной даты другую, – а вот проникновения в дух прошлого, способности уловить связь между прошлым и настоящим, т. е. всего, что отсутствует в иных солидных и внешне безупречных руководствах, этого-то ничем заменить было бы нельзя! И это – главное, чем книга Сазоновой прельщает и подкупает. Ключевский говорил о некоторых своих учениках: «мало знать, надо понимать». Сазонова во всяком случае «понимает», чувствует, умело и чутко догадывается, безошибочно взвешивает и оценивает, да и «знает» слишком много, чтобы те или иные погрешности в изложении можно было приписать чему-либо, кроме рассеянности. Тысячи, тысячи сведений, фактов, чисел, имен, – и, право, при сколько-нибудь справедливом отношении к делу никак нельзя свести на нет ценность прекрасной книги из-за того, скажем, что Мамай умер не в том году, который в ней указан.
Книга полна мысли и в ответ, как говорится, будит мысль. Внушена, вдохновлена она сознанием единства русской литературы, и вовсе не по какому-либо капризу беспрестанно переходит автор от древних памятников к писателям новейшим, вплоть до Гумилева и других: преемственность, связь, верность русскому духу – тема Сазоновой, а изложение должно в ее представлении стать развитием этой темы, ее утверждением и иллюстрацией.
«Русская литература родилась в монашеской келье, в младенчестве носила рясу черноризца, в отрочестве облачилась в латы воина. Этим в значительной степени объясняются ее судьбы».
«То, что русская литература родилась в монастыре, и что первым ее служителем был отрекшийся от мира отшельник, наложило неизгладимую печать на весь позднейший облик русского писателя, которому вменялось в обязанность быть подвижником…»
«С первых строк темою русской литературы были национальные нужды, вопросы будущего, “печалование” о Руси, стремление указать правильный путь… Такое понимание целей художественного изображения сохранилось на протяжении веков… Источником заветов русской литературы, служивших мерилом значения писателя, была монастырская келья с ее строгим отношением к правде».
Все это непререкаемо верно, а если подчас, при новых веяниях, эти истины и кажутся устарелыми, отжившими, требующими пересмотра, то полезно уйти в глубь веков, и, взглянув оттуда на все длительное развитие нашей словесности, убедиться в ее цельности и даже больше: в особом, действительно «подвижническом» ее характере. Правда, относится это только к вершинам ее. Но не по вершинам ли надо о творческих явлениях и судить? Несомненно, от древних летописцев, как утверждает Сазонова, тянется к Гоголю, Толстому или Достоевскому прямая соединительная нить. Ну, а если – скажу от себя, – писания Икса или Игрека с этой линией не вполне совпадают, то тем хуже для них: большого значения это не имеет!
Нет возможности остановиться на отдельных главах книги Сазоновой, хотя в каждой достаточно содержания, чтобы сделать это стоило. Стоило бы поговорить особо о песнях, о проповедях, а тем более о «Слове о полку Игореве», несравненная поэтическая прелесть которого, пробиваясь сквозь трудный по составу язык, может служить для русского человека оселком: глух он к поэзии или нет? О житиях, о сказаниях, об Иосифе Волоцком и его противнике Ниле Сорском, одном из великих общерусских учителей, о многом другом.
Основное впечатление, не новое, в сущности, и ничуть не неожиданное, но при чтении усиливающееся с каждой главой: сколько боли в русской истории, сколько в ней страдания и грусти! Пожалуй, и другие народы могли бы сказать о себе то же самое: в самом деле, дорогой ценой оплатило и оплачивает до сих пор человечество путь свой к тому, что мы называем «цветением цивилизации». Но у русской истории свой тон, своя окраска и привкус, да и судьба у России особая, иная. Одна из цитат, приведенных в книге Сазоновой, меня поразила, и не сомневаюсь, поразит и даже взволнует многих читателей, как отклик «из глубины веков» на их приглушенные, притупившиеся от времени мысли и чувства, как что-то сказанное чуть ли не вчера, после долгих скитаний, воспоминаний, надежд, недоумений, обид, после всего, что пришлось русским эмигрантам испытать, и что все-таки не превратило их в Иванов-непомнящих. А написаны эти строки в пятнадцатом веке, Афанасием Никитиным, путешественником, побывавшим в Турции, Индии и других далеких странах:
«Турецкая земля очень обильна. В Волошской земле также обильно и дешево все съестное. Обильна всем и Подольская земля… А Русскую землю Бог да сохранит! Боже сохрани! Боже сохрани! На этом свете нет земли подобной ей, хотя бояре Русской земли не добры. Но да устроится Русская земля и да будет в ней справедливость! О Боже, Боже, Боже, Боже, Боже!»
Нечего к таким словам добавить. Но раз прочитав, нельзя их и забыть.
* * *
Переходя к вопросам совсем иного порядка, должен заметить, что некоторые утверждения Сазоновой представляются мне довольно спорными. В частности, ее замечания о Киеве и том периоде киевской культуры, который она определяет, как «русский Ренессанс».
Сазонова не только приписывает ему такое же значение, как Возрождению итальянскому, но даже склонна отдать ему предпочтение. Не Рим, а Греция вдохнула жизнь в русскую цивилизацию. Платон, Эсхил, Софокл стояли у ее колыбели. Именно тем, что киевская Русь явилась духовной преемницей Эллады, и следует будто бы объяснить, что позднейший, французский классицизм – у нас называвшийся ложноклассицизмом, – не мог привиться в России. Что в самом деле могли дать Корнель и Расин народу, хранившему память о первоисточнике всей европейской культуры, и еще дышавшему афинским животворящим воздухом! Да, – указывает Сазонова, – татарское иго было страшной катастрофой, надолго отбросившей Россию назад. Но связь окончательно нарушена не была.
Нет ли здесь натяжки? Тема исторически сложна, в двух словах о ней, разумеется, ничего не скажешь. Спросим себя, однако: был ли действительно в России когда-либо Ренессанс и уместен ли этот термин в применении к византийски-киевскому знакомству или даже увлечению древней эллинской литературой, мудростью, просвещением? Где в нашей истории Возрождение, именно воз-рождение, т. е. не преемственность, а восстановление чего-то забытого, возвращение к дорогому, утраченному прошлому?
Чем было Возрождение итальянское? Прежде всего – вспышкой света, радости, пробуждением от долгого сна, вновь обретенным ощущением безгрешности мира, каким-то утром культуры, проникнутым утренней бодростью и головокружительно-безбрежным вдохновением. Да, совершенно верно, средневековье вовсе не было эпохой сплошного мрака и грубости, и прежние невежественные представления о нем давно пора оставить. «Le moyen Age énorme et délicat», – хорошо сказал о нем Верлен. Была в Средние века напряженнейшая духовная жизнь, было все то, что навсегда запечатлено в дивных, рвущихся ввысь средневековых соборах и не менее дивных сказаниях, легендах, наконец – в великом историческом явлении крестовых походов.
Но душа человека двоится. Ее тянет ввысь, но держит ее и земля, со всей упоительной прелестью и сладостью земного существования. Возрождение несло в себе, несло с собой оправдание того, что казалось навеки осуждено, отвергнуто, как нечто бесовское, удрученное тяжестью первородного греха, – и конечно, оно должно было возникнуть именно в Италии, где само небо в своей сияющей синеве как бы свидетельствовало, что жить стоит, что не может человек думать только о бренности земного существования и о смерти, что если мир создан Богом, то в нем и до сих пор «все добро зело»… В киевской Руси не было долгих веков забвения и не могло быть поэтому и счастья находки, узнавания, восстановления. Кстати, у Буркхардта в знаменитой его книги о Возрождении, – одной из любимых книг Ницше, – есть рассказ о находке чисто материальной, физической, и о том волнении, которое она в Италии возбудила. Найдена была гробница с чудесно сохранившимся трупом молодой римлянки: люди склонялись над ней в молитвенном благоговении, именно потому, что это была римлянка, женщина, которая, может быть, видела Вергилия или – как знать? – беседовала с Цицероном. Для них это было видение из потерянного рая, осколок мира, где в первый и единственный раз человек был полностью человеком. Ничего подобного не могло бы возникнуть в киевской Руси, оттого и отклики нашего мнимого Ренессанса были слабее, независимо от татар.
А Корнель и Расин… Но ведь вовсе не только в России и для русских они были не классиками, а псевдоклассиками, и не только Лев Толстой утверждал, что это «поэтическая язва на теле Европы», не только Пушкин считал, что в «Федре», кроме прекрасных стихов, ровно ничего нет! В Германии, в Англии было распространено то же мнение, и высказаны были оценки еще более резкие. Едва ли, значит, отталкивание от французского классицизма следует приписать преобладанию влияний греческих.
Спорить, однако, можно до бесконечности. Скажу в заключение, что соглашаясь или не соглашаясь с автором, отрадно читать книгу, очень богатую содержанием и заставляющую думать о предметах по-настоящему интересных и до сих пор существенных.