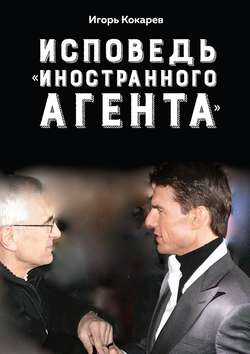Читать книгу Исповедь «иностранного агента». Как я строил гражданское общество - Игорь Евгеньевич Кокарев - Страница 4
Часть I.
До Перестройки… За социализм с человеческим лицом…
Глава 1
Одесса 60-х: дети хрущевской оттепели
ОглавлениеДа, город этот мечен нами,
И запах держит старый двор…
И только крепнет он с годами
И тянет нас на разговор…
Что я оставлю детям? Не деньги, их у меня никогда и не было. Откуда деньги у советского человека? Жизненный опыт, если удастся осмыслить и передать, он важнее. Потому что наступают времена, когда деньгами не прикроешься. А гены… Что знаю я о генах своего рода? Ничего. Да и в истории моего народа столько напутано… Пусть хоть дети мои узнают про своего отца…
Так случилось, я родился в Одессе. Это много значит для тех, кто понимает. Но еще важнее, я родился сразу, как закончились кровавые тридцатые. Подумать только, мне повезло выскользнуть из жутких лап коллективизации, из молотилки Большого террора, из мясорубки страшной войны. Счастливчик…
Вот здесь, рядом со школой Столярского, что у Сабанеева моста, и баней, откуда был известный только нам, пацанам, подземный ход в катакомбы с костями не то людей, не то коров. Для счастья достаточно было знать, что нас ждет светлое будущее, которому надо посвятить жизнь. Детство в стране только что победившей фашизм – это кусок хлеба и стакан чая перед школой. Ни холодильников, ни телевизоров, ни телефонов у нас не было. Был горд, что родился в СССР, а не в загнивающей Америке, где негров вешают. «Два мира – два детства», может, кто помнит такой плакат?
Отец, фрагмент быта в предвоенные годы
У одесских мальчишек было море – чистое, зеленоватое у заросших мидиями осколков скал. Море и книги. Аккуратным почерком записывал каждую прочитанную, вот она, полуистлевшая тетрадка, которой 70 лет. В ней сотни книг, целая библиотека, огромный мир, в который предстояло войти и сделать его справедливым, красивым и счастливым. Если советской власти удалось вывести породу советского человека, то это я.
Ранним летним утром добегали пацаны до Ланжерона, влетали в прохладную плотную воду и легко проплывали всю дикую, заросшую степным, пахучим ковылём Отраду, выбрасывались на горячий уже песок в Аркадии и спали под палящим солнцем, черные, как сухие коряги, до обеда. Просыпались, чтобы с наслаждением проглотить за двадцать копеек четыре пирожка с потрохами, выпить на пятак газировки. И обратно морем. Но, уже не торопясь, выходя к рыбакам в Отраде похлебать из солдатского котелка юшки.
Дома мать уже наготовила миску салата из степных помидоров, с луком, с картошкой, огурцами и постным маслом. Набьешь голодное пузо – и в городской сквер у Дерибасовской. Там летняя эстрада, концерт московских звёзд. Через забор – и на тёплый еще асфальт перед первым рядом: пой, Ружена Сикора, мы здесь. Счастливые, вечно голодные, советские дети пятидесятых, строительный материал коммунизма во всем мире…
Когда умер Сталин, гудели заводы, сигналили автомашины, я стоял, держа руку в пионерском салюте. По маминым щекам текли слезы. Все ожидали конца света. А Юрка Бровкин зло выковыривал глаза на портрете в учебнике. Нам было по тринадцать, мы дружили. До этого дня. До кровавой драки.
Осенняя слякоть, старушка несет с базара в обеих руках кошелку, авоську, бидон с молоком. Помню крышку бидона, нечаянно сброшенную полой пальто прохожего прямо под ноги, в жидкую, чавкающую грязь. Я поднимаю ее, протираю сначала рукавом, потом своей белой рубашкой насухо и прикрываю ею бидон. Смотрю, а старушка плачет, глядя на мои неуклюжие старания. Обожгло меня. И у самого слезы. Что это было? «Стрела добра пронзила его сердце». Из книжки фраза.
Да, мы книжные дети: «Дикая собака Динго», «Голубая чашка», «Тимур и его команда», «Люди с чистой совестью», «Спартак», «Овод», Маяковский… Горьковское «Человек – это звучит гордо!» относилось непосредственно ко мне. И звало куда-то лермонтовское: «А он, мятежный, просит бури…» И что? Прочитанное, услышанное, впитанное живет в какой-то таинственной конфигурации в подсознании, создавая разных мальчишек и девчонок. Я не думал тогда о том, что Юрка Бровкин мог знать то, чего не знал я. Была ведь и другая литература – Замятина, Бердяева, Бунина, Набокова… Но мне она не досталась.
Даже Есенина мать выбросила в сердцах с балкона:
– Не смей читать эти декадентские стихи! О самоубийстве думаешь?
Оберегала от чего-то, от одной ей ведомой опасности. Она была мне и отцом и матерью. В городе моряков это не редкость. О своей молодости она не рассказывала, о голоде, о продразверстке, об ужасах процессов 30-х годов ни она, ни отец никогда – ни громко, ни шопотом – не вспоминали. О деле врачей мы уже узнали и сами. Неужели? И там враги? Но раз в «Правде»… Маму лучше не спрашивать, у нее самой глаза на лбу. У нее забот хватало: сберечь детей. Вот и крутилась по дому – одеть, обуть, обстирать, накормить, чтоб друзья были нормальные, и все с неизменной папиросой в зубах. Сколько помню, она всегда курила, с самой войны. Курила «Приму», полторы пачки в день.
Когда меня еще не было
– В бараний рог скручу, но сделаю вас счастливыми! – твердила она, тщательно скрывая какое-то неведомое мне беспокойство, похожее на страх. А чего бояться?
Она была в ответственности за нас перед отцом. Мама, бросившая из-за войны медицинский, спасла нас с сестрой, вытащив на себе из горящей Одессы через всю воевавшую страну аж на Дальний Восток. Отец, водивший в 1942-м караваны с грузами лендлиза из Ливерпуля в Мурманск, отлежав в госпиталях, нашёл нас во Владивостоке только в 1944. И всю жизнь был благодарен матери, сохранившей детям жизнь в то невероятно, немыслимо тяжёлое время. Охраняла она нас и теперь, в 50-х. Умрет мама рано, в 66 лет от разрыва сердца. Я тогда упал на гроб и, запоздало рыдая, долго не отпускал ее.
Когда меня уже с ними не было
Отец в дальних рейсах, он влиял на меня самим фактом своего существования. Авторитетом, которым пользовался на флоте. Инженер-механик, «дед», механик-наставник, парторг, ордена за труд. Не в торговле все же… В машинном отделении, в его каюте все было на своих местах. И ни пылинки. Его любили все, кто с ним работал. Мне это запомнилось, и я перенял эту страсть к порядку. Неосознанно, конечно. Может быть потому и выбирали старостой класса, председателем совета дружины школы, а моими подшефными были самые тертые хулиганы братья Лысенки. Пробьет час, и один из них в составе элитных войск КГБ будет штурмовать дворец Амина в Афгане, и умрет от ран в неполные 50 лет. Прощаться с Мишей приедет весь класс постаревших одноклассников.
С корешем моим, Юркой Марковым, на заросшем виноградом балконе, с которого была видна синяя полоска моря и Военная гавань, готовились к выпускным экзаменам. Спорили о смысле жизни, о мирном человечестве без оружия и войн, ощущая себя частью гигантской машины, несущейся к коммунизму. И движение это все больше захватывало меня, я видел светлое будущее как собственную цель.
Время выбора профессии наступало на пятки. От этого выбора зависит, получится жизнь или нет. Где точка приложения буйных сил, что рвались наружу? Свербило, беспокоило: не найдешь свой путь, проиграешь жизнь. И даже не заметишь, что проиграл… Почему не учат в школе кем стать? Способность раннего выбора, думаю, знак таланта. И еще чего-то, имеющего отношение к силе характера, к воле и целеустремленности. Голос призвания – великая сила. Данная от природы или внушенная. Мальчишки и девчонки, мы еще не знаем ни своих способностей, ни капризов взрослой жизни, полной компромиссов и вызовов.
Другой мой одноклассник, с которым мы дружили всю жизнь, Игорь Кириченко, не обременялся нашими сомнениями. Он уже знал, что будет химиком, и в этом было его счастье. Станет профессором одесского университета, будет преподавать в Алжире на французском, потом снова мирно жить в Одессе и преподавать в родном университете. Залетая изредка в родной город, я буду ночевать в его трехкомнатной квартире иногда сам, иногда с семьей. Буду расспрашивать о житье-бытье. С годами он передаст кафедру своей ученой дочери, тоже химику, будет любоваться рослым, красивым и умным внуком. Получит, наконец, от своего университета квартиру в элитном доме на высоком берегу Отрады, въедет в нее и знойным летом, войдя в те же волны, что и 70 лет назад, мгновенно умрет от разрыва сердца… Какая прекрасная жизнь.
Во времена нашей юности Одесса была русским городом с еврейско-украинским акцентом. Порто-франко в каком-то духовном смысле. Нормальные люди общались цитатами из «Двенадцати стульев», хотя книги официально не существовало. Остапом Бендером вошла в сознание эпоха НЭПа, оставив за скобками кровавые роды советской власти. А нынешнее время форматировал Жванецкий. Миша видел мир глазами застенчивого интеллигента, рассказывающего, как пройти на Дерибасовскую, смеющегося над глупым доцентом, которого довел до бешенства прямодушный студент Авас. Миша вносил свою лепту в нашу речь, помогая сохранять себя.
Слово вообще имело большое значение для одесситов. Им играли, им cкандалили, им упивались, им нежились, как солнцем на горячих пляжах. Жить для меня значило прежде всего выразиться в слове, ради которого стоило рисковать. Я рано понял, что увиденное, но не осмысленное, растворяется без следа. А осмыслить означает найти слова. Потом я найду эту мысль у Бунина в «Жизни Арсеньева» и очень огорчусь. Оказывается, не я один…
…Помню в моих руках страшные тексты. Смятые, затертые страницы дневника недавно реабилитированного политзаключенного, друга моего отца, написанные им «там», урывками и тайком. На нашей маленькой даче в полдомика на 13-й станции Большого фонтана передо мной сидел изрезанный не то морщинами, не то шрамами сломленный человек и вяло рассказывал немыслимое. В 37-м он занимал высокий пост председателя Баскомфлота, профсоюза моряков. Его вызвали в Москву и взяли прямо в кабинете Берии, после дружеских объятий красного наркома. И для начала профессионально избили. Ни за что. Я не мог представить, как это бить беззащитного человека? Расчеловечить, мгновенно превратить в корчащееся от боли животное.
Я был потрясен прочитанным. Я только спросил его:
– Вы не хотите отомстить своим мучителям?
Он посмотрел на меня печальными, мертвыми глазами:
– Отомстить? Молодой человек, у меня сил осталось только дышать.
Тогда я не понял его. Только что разоблачен культ личности, возвращены невиновные. Как можно позволить им остаться безнаказанными, не раскаявшимися? Палачам, и вертухаям, и стукачам… А они затаились, крепко держатся за старое, ищут в нем себе оправдание. Я переспросил папиного друга:
– Значит, вы им простили?
– Нет, не так. Я знал: раз посадили, значит, партии так нужно. А где умирать за дело партии, в бою или в лагере, это не важно. Я, значит, был нужен ей там.
В этой логике безропотного жертвоприношения было что-то темное, запредельное. Сломанные, навсегда утраченные люди… Принять арест, пытки, тюрьму, лагерь, потому что это нужно партии? Ослепленные безбожной верой в коммунизм и партию, они вынужденно принимали ложные обвинения и пытки как жертвоприношение – единственное объяснение немыслимого. Оставляя после себя шлейф смертельного, запредельного страха.
Мы были уже другими. Мы не знали репрессий. В прошлом была только героика Гражданской войны и великих строек. Отец, который мог бы что-то рассказать, молчал. Да я и не спрашивал, так как не знал, о чем. Когда его, старшего механика Черноморского пароходства, всю жизнь утюжившего моря и океаны, партия вдруг бросила на подъем сельского хозяйства в Молдавию, он тоже безропотно подчинился. Конечно, это не лагерь и не допросы с пристрастием. Директор машино-тракторной станции в Молдавии в Дубоссарах ремонтировал комбайны вместо судовых двигателей. За что получил орден Трудового Красного знамени. Он тоже не задавал вопросов… А я? И я ведь туда же! По призыву комсомола с флота в степи казахские на комсомольскую стройку. Добровольно! С энтузиазмом!
– Идиот, – думали товарищи, когда я сходил с «Башкирии» на берег, чтобы не вернуться.
– Романтики, – писали в газетах.
Но добровольцы 41-го меня поймут. Правда, они не вернутся из боя. А я вернусь живым и невредимым…
«Философия истории» Гегеля – книга из доступных для чтения. Поскольку Гегель был творцом диалектики, а диалектика открывала тайны бытия, им надо было заняться. И вот, эта формула: «свобода как осознанная необходимость». Она и вела, как я думал, к ним, «врагам народа», принявшим чудовищные обвинения и муки лагерей как особое задание партии. Не знаю, по силам ли мне такая свобода… Задание партии – не только принять муки, но и отдать честь и достоинство? Нет, лучше умереть до этого… Я еще не знал, что придет время, и я тоже стану «иностранным агентом», врагом народа, которому служил всю жизнь, как мог. И окажусь вдали от родины, отстаивая в относительной безопасности ценности свободы и демократии, честь и достоинство за себя и за других…
От Гегеля осталось еще и понимание истории как необратимого прогресса – вперед и выше. Что после нас, то и лучше. Вот и рвался в это будущее. Хотелось, как Огарев и Герцен когда-то на Воробьевых горах, «пожертвовать жизнью на избранную нами борьбу…» Борьбу за будущее. Любви еще не знал. Семья, уют, благополучие, казалось, не стоили того, чтобы потратить на них жизнь.
«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник…»
Впрочем, жизнь уже вносила кое-какие поправки. В том году объединили мужские и женские школы, и эта внезапная близость, случайные прикосновения, лукавые взгляды, девичьи запахи слегка наехали на жажду подвига. Стало неловко ходить по улицам, потому что взгляд сам собой стал забегать под юбки за красивыми ножками. Стыдно, но как противостоять этому наваждению? Книга или танцы? Субботние муки каждую неделю. Битва духа с плотью.
Спас отец. Догадывался ли он, не знаю. Но это он отвел меня к своему товарищу в детскую спортивную школу ДСШ №1, и это был правильный воспитательный ход. Не мой выбор, но правильный. Спорт не только отвлек внимание от игры гормонов, не только укрепил мышцы, но и навсегда подарил образ жизни. Непередаваемо это чувство превосходства над толстым, неуклюжим человечеством. Вечерами в Воронцовском переулке, что возле Дюка и Потемкинской лестницы, разгонялся на турнике в большие обороты и сальто прогнувшись. Привыкшее к работе тело и в 60 вынесет меня на двойное сальто, и в 75, привычно вложив ладони в кольца, поднимусь из виса в упор и в угол, и выжму стойку, не дрогнув.
От меня слева Федотов, справа Воскобойников, Кинолик, Лысенко, Моисеев… Сборная Одессы по спортивной гимнастике 1956 года
После тренировки – два стакана томатного сока и рондат-фляк-сальто прямо по брусчатке Пушкинской на оторопевшего милиционера. Не ходили по земле, летали. Саша Лапшин, Зорик Кинолик, Фред Воскобойников – сборная Одессы по спортивной гимнастике из Воронцовского переулка – крепкие ребята. С ними мы еще увидимся, в Москве, в Одессе, в Америке. Через много лет.
Девчонки из 8 «б» заглядывали в окна спортзала, шептались, хихикали. И хотя уже сплетались под партой руки, и глаза неотступно следовали за ножками Аси Андриешиной, и не знаю, чем бы это кончилось, если бы не Она.
Той первой любви, платонической и поэтической, обязан своим благоговейным отношением к женщине. Ее присутствие в желанном будущем, правда, было еще туманным. Как и само будущее…
Ей мои первые чувства и неуклюжие стихи – Ларе Заякиной. А за Дюком, непосредственно за первым углом справа – наша ДСШ-1, моя и ее колыбель спорта.
Мальчишки были хозяевами Черного моря, одесских пляжей и улиц. В Оперный мы залезали на балконы второго этажа по фонарным столбам, на Привозе весело переругивались с торговцами, таская на пробу большие куски чего угодно, и презирали курортников, устилавших жирными белыми телами наши пляжи. Гимнасты и акробаты, мы расчищали площадку на песке Ланжерона и на глазах публики вытворяли такие трюки, что нынешние мускулистые мулаты на Променаде Санта Моники кажутся мне салагами. Пока курортники, раскрыв рты, глазели на сальто и стойки, карманники тихо делали свое дело, слегка проходясь жадными пальцами по сложенной в кучки одежде. Одесса мама…
Да, я любил свою Одессу. Мила Фарбер подкармливала вечно голодного, бутербродами с колбасой, которые готовила ее мама. Олечка Александрович приносила больному куриный бульон в кастрюльке. Я любил их всех, они любили меня. Это и было счастье.
Но уже чувствовал, что в Одессе не останусь. Мир огромен, будущее дразнит, выманивает. Где-то в Москве журфак, МГИМО, Институт философии. Родители стояли насмерть:
– Какая философия, прости господи? Сначала получи профессию! Ты что, в тюрьму захотел? Вон, соседа забрали на пять лет за анекдот…
Не понимал их страхов. Тренировки, книги, походы в катакомбы, сбор металлолома, стишки в стенгазету, шефство над двоечниками. За что, спрашивается? Где-то там, над нашими головами верстались пятилетние планы, снижались цены, осваивался Космос. Туда рвалась душа, а не в какую-то тюрьму, мама! Но поступил в Высшую Мореходку. Почему? Измены жизнь не прощает. Сказал бы кто раньше…
На консультациях по русскому языку перед вступительными паясничал у доски. Преподаватель устроил тест: вызывал абитуриентов и диктовал слова. До первой ошибки. Человек пять слетели после 2—3 слов. На мне процесс сбился. Список слов был исчерпан, а я все стоял у доски и пожимал плечами. У меня же абсолютный слух на грамотность. И все увидели: не тот человек на борту… Но отца знали и уважали члены приемной комиссии.
После поступления я ей открылся. Ночью, на борту белокрылого лайнера «Украина» – под свист ветра и шум разрезаемых сталью волн. «Жемчужина твоей девственности скрыта в перламутровой раковине моей души. Меня спрашивают, где живёшь ты, как будто не знают, что твой дом – в моем сердце». Говорил цитатами из Олдриджа, не зная, что в тот момент она уже сделала свой выбор. Со скромным Саней, однокурсником, механиком по холодильным установкам на судах загранплавания она проживет счастливые пятьдесят лет.
Лара и Саня. Они прожили долгую и счастливую жизнь
Уже в независимой Украине умирать она будет долго, теряя способность сначала двигаться, потом говорить. Не станет ее как раз в те дни, когда в Одессе прольется первая кровь гибридной войны с Россией, и в здании бывшего обкома КПСС сгорят обманутые сепаратисты, сторонники развала Украины. Ее верный Саша пришлет мне в Лос-Анджелес краткое сообщение: «Сегодня умерла Ларонька»… Оборвется еще одна ниточка.
Наверное, из уголовки эта традиция наделять сокамерников кликухами – прозвищами. Кто их придумывал в нашей роте? Казалось, их просто вспомнили, и никто не удивлялся: Мерзавчик, Уголок, Чилона, Кенгуру, Качок. И вдруг: Идеалист-утопист. Насмешка какая-то. Я завидовал Чилоне, деревенскому парню, паровоза не видавшего до мореходки. Как он в уме берет эти проклятые производные и интегралы? В моём им не было места.
А что там было? Через много лет в фильме Марка Осипяна «Три дня Виктора Чернышева» будет сцена: прут немецкие танки, у наших артиллеристов кончились снаряды. Окровавленный наводчик оборачивается и яростно кричит, протянув руку прямо в зрительный зал:
– Дай снаряд!!
И это я проползу по кровавому снегу и потащу ему тяжелый снаряд. Может быть, последний…
Однажды Санька Палыга не выдержал:
– Начитался утопистов, людям головы морочишь. А жить-то как будешь? Свои-то мысли есть?
– Погоди, – отмахивался я, – все впереди.
А что все – и сам не знал. Читал под партой «Сумму технологий» Лема и доставал вопросами преподавателя политэкономии: устареет ли теория прибавочной стоимости, когда человеческий труд заменят роботы?
Наконец, накатывало лето, а с ним практика по Крымско – Кавказской линии на белоснежных лайнерах. «Победа», «Россия», «Адмирал Нахимов»… Белые пароходы… Качается палуба под ногами практиканта от выпитых грузинских вин и танцев. Днем стоянка в Ялте, в Сочи, в Батуми. Красоты Крыма и Кавказа бесплатно в свободное от вахты время. Скоро побережье я уже знал, как свои пять пальцев. Стоит команда вдоль борта, рассматривает новых пассажирок, идущих по трапу на посадку. Одну сам принес на плече, подобрав на причале в слезах и соплях. Невиданной красоты девчонка оказалась подругой валютчика Рокотова, только что взятого в Ялте с поличным. На судне ее искать не стали, а в Одессе, куда я ее довез через неделю, ее следы затерялись.
Татьяна Познякова, балерина Кировского театра, живущая ныне в маленьком городке под Нью-Йорком, любит вспоминать, как пятьдесят лет назад гуляла она с курсантом-практикантом по Сочи, как ели плавленный сырок на Приморском бульваре и читали друг другу стихи. Тогда не целовались, а теперь поздно. Эх, жизнь…
Катали мы на нашем лайнере и иностранцев. Но тут присмотр за командой был строгим. Длинный сутулый дядя Федя не сводил своих тухлых глаз с тех из нас, кто знал не по-русски. Я знал. И общался с парой молодых симпатяшек американцев. Говорили за жизнь. Они спрашивали, глядя на проплывавший вдали Воронцовский дворец:
– А разве ты не хотел бы жить в таком?
Я отвечал совершенно искренне:
– Так там сейчас профсоюзный санаторий. Бесплатная путевка на 24 дня от завода или пароходства. Живи-не хочу, на всем готовом. У нас все побережье в таких санаториях.
Удивляются:
– А машину собственную?
Сама идея в те времена была так нереальна, что я, и правда, не мечтал.
– Так у нас хороший городской транспорт, всего несколько копеек билет. С машиной еще возиться надо.
– А работать вас посылают в Сибирь, в Азию. В Казахстан, кажется. Называется на цел… цел… на целину. Это правда?
В это время над палубами нашей «Латвии» неслась песня романтиков 60-х: «Комсомольцы, добровольцы… надо верить, любить беззаветно… только так можно счастье найти!»
Как им, не знающих ни слов этих, ни наших высоких помыслов, передать энтузиазм и восторг уходящих на бой, на смерть, на подвиги с горящими счастливыми глазами? Ну, какие дворцы и авто, вы, что ребята? У нас есть Родина. Мы Родину любим. Читали «Как закалялась сталь»? Нет? То-то. Мы здесь все Павки Корчагины. Ну, не все. И не всегда. Но все же…
Кажется, эти симпатяги что-то поняли. Они переглянулись между собой, и Дайана сказала как-то с сожалением, больше самой себе:
– Да, наверное, они счастливы. У них есть родина. У нас тоже. И мы ее любим. Но он нужен своей стране. А мы нет. Только себе. Делай, что хочешь. Свобода. А зачем она, свобода, если ты никому не нужен? Тут что-то есть, Джим.
Я чувствовал себя гордым и счастливым. Сами же признаются! Вот только если бы не тот тухлый взгляд из-за угла…
Экипаж ОВИМУ внизу, у Дюковского парка. К парку скатывается сверху трамвай по улице Перекопской Победы мимо Главного корпуса. Тормозит у экипажа и уходит дальше на Молдаванку. Парк не ахти какой, но с бассейном. Бассейн, правда, и у нас в экипаже, даже с десятиметровой вышкой. Но зимой воду спускали. А в Дюке, когда замерзала вода, кто-то делал проруби. По утрам, после йоги я бежал туда нырять под лед. Выныривал на другом конце бассейна из другой проруби. Пар валил, тело звенело и, казалось, стрелы бы отскакивали. Жизнь и вечность сливались в одно волнующее предчувствие: все впереди, надо готовиться!
А по субботам на Тираспольской площади, на конечной остановке трамвая, в забегаловке за рубль брал, как все, стакан водки:
Была традиция такая:
Сойдя с гремящего трамвая,
Зайти в закусочную с края
И взять не думая сто грамм
С хвостом селедки пополам.
И так два раза. Автомат
Всегда давал курсанту шансы…
А после этого – на танцы!
И поднимали корешА пьяное тело к кольцам, и прикипали кольца к ладоням, и взвивали ввысь гимнаста враз напрягшиеся мышцы. И стоял в стойке вниз головой как вкопанный, и замолкала музыка, и ахали девчонки.
Отсюда глухими ночами, трамвай загрузив корешами, ползли в экипаж с самоволки усталые пьяные волки…
По ночам дневальному делать нечего. Сонный экипаж, тумбочка в конце длинного коридора, заветный дневник и ручка. Стихи как ныряние вглубь себя, в прорубь сомнений: что делаю в этой жизни? Зачем теряю годы, занимая чье-то место? Дух маялся, ища применения. И не находил, запертый в клетке осознанной необходимости.
Наш сладкий тенор Виктор Бородин, изгнанный из Водного института за любовь к польской студентке, отмолотивший за это три года в армии и вернувшийся уже к нам зрелым человеком, читал нараспев мои стишки в стенгазету.
Смелый кто? Попробуй счисти-ка
Эту грязь с курсанта Пищика!
На фото не Пищик, а Володя Марин. Но это не важно, вахта есть вахта
Пищика уже нет, а строчки остались. И Пищик в них стоит перед глазами, худой, небритый, темный кожей. Пятьдесят лет спустя однокурсник признается в разговорах по скайпу:
– А мы думали, ты поэтом станешь. Сильно был не такой, как все…
Поэтом станет мой однокурсник Домулевский.
Перед экзаменами все в кубрике носами в учебники, руки строчат шпаргалки. Дух стоит тяжёлый от сорока мужиков на смятых одеялах. Никто уже не острит и не выпендривается. Толя Коханский, главный наш зубрила, вслух что-то бубнит и бубнит над учебником. Как китаец, честное слово. Не удивительно, что он на последнем курсе женился на нашей преподавательнице. Женщины всех возрастов таких положительных любят. На пятидесятилетие нашего выпуска в сентябре 2012-го Коханские придут вместе и под ручку. А потом, через месяц Толя уйдет… Земля ему пухом…
Великолепная десятка ОВИМУ выпуска 1962 года
Их юность только мне видна
Сквозь их седины и морщины.
Да разве знали мы тогда
Зачем мы Родине, мужчины?
Как сеется меж нас вражда,
Как гибнут города от «Града»?
Глаза мы прячем от стыда,
Нас снова превращают в стадо…
На четвертом курсе произошло два события. В библиотеке Горького день за днем читал, ошеломленный, «Один день Ивана Денисовича». Сбегал с занятий. Ни о чем другом думать не мог. Потрясение сильней, чем от ХХ съезда КППС. Там за все в ответе сделали одного человека. А у Солженицына культ личности – это ГУЛАГ, жуткая человекомолка! Прошлое вдруг полыхнуло ужасом безнаказанного садизма. Жгла догадка: а ведь они среди нас, эти затаившиеся убийцы и мучители! Почему не осуждены, не наказаны?
Оставшиеся в живых жертвы не вышли на демонстрации, не предъявили счет. Говорят, один плюнул в лицо своему следователю, увидев на улице. И все. Шептались бывшие вертухаи и осведомители: «И правильно, что сажали, и было за что». «Жертвы были не напрасны», – отговаривались их дети. А партия притихла, затаилась, боясь возмездия. Суда над ВКП (б) и КПСС я так и не дождусь при своей жизни. Дождется ли страна, впавшая в спячку?…
Много лет спустя читая «Предел забвения» неизвестного мне Сергея Лебедева, я нашел такие строки: «Он страшился не того, что сделал; он испугался, когда оказалось, что он, начальник расстрельной команды, – никто в теперешнем мире; ему не плевали в лицо, но его и не боялись больше. Он, переживший не только своих жертв, но и тех, кто мог бы свидетельствовать о них и за них, остался один; все расстрелы, все убийства были забыты, целая эпоха ушла на дно памяти, и он, запертый внутри нее, все пытался доказать, что он – был; старик не мог перенести, что причиненное им зло не существовало больше как зло; он убивал, а мир в конце концов закрыл, а потом открыл глаза, и все стало так, будто ничего не было».
Было от чего им сойти с ума. Но я их не видел. И жил в двух мирах – в том реальном, в котором меня воспитали, и в другом, темном, куда не решался заходить слишком далеко…
Второе событие: меня чуть не исключили из комсомола за «очернение курсантского быта». На концерте в Пединституте поставил я номер в ритме рока: мятые алюминиевые кружки, завязанные узлом алюминиевые столовые ложки, сухари на случай голодного приступа, брюки клеш и форменка в обтяжку на Гургене Нариняне, лабавшем сумасшедший рок на табуретке. Такая вот самодеятельность. Не Жванецкий, конечно. Но задницу набили крепко. Персональное дело. Спас Геннадий Охримович, добрый верзила с пятого электромеханического: «Та шо вы к хлопцу пристали, он же хотел как лучше!» И все почему-то успокоились.
Исключение из комсомола означало отчисление из училища автоматом. Спас он, Геннадий Охримович. Спасибо, Гена!
С Геннадием мы встретимся через много лет в Одессе, как добрые друзья. Мои дети будут играть с его внуками, а я – пить водку и слушать заслуженного работника флота, пенсионера, в каких экзотических портах мира побывал он на знаменитом лайнере «Одесса» за тридцать с лишком лет плавания. Дубленый известными мне ветрами, не согнутый годами, с неистребимым украинским акцентом, он выглядел счастливым и гордым своей жизнью. Я буду сидеть в его с шиком обставленной трехкомнатной квартире в Новых Черемушках, такой же седой, как он, и даже не подозревать, что еще через десять лет буду сочинятьь сценарий фильма о его капитане, моем другом товарище Вадиме Никитине, который сделал «Одессу» славой и гордостью советского пассажирского флота, и который за это умрет униженным и оскорбленным на капитанском мостике каботажного судёнышка на дальнем Севере…
Третье событие, имевшее последствия. После того персонального дела вызвали меня в Горком комсомола. Бельтюков, крепко сбитый колобок с коротким носом, первый секретарь, окинул курсанта строгим взглядом и вдруг без всяких предисловий:
– Пойдёшь на работу в горком комсомола?
Что-то нарисовалось на моей удивленной физиономии, что дрогнули в улыбке его тонкие губы:
– Мы тут подумали и решили взять тебя в отдел спортивно-массовой работы. Переведем на заочный, закончишь со своим курсом. Иди к Кондрашеву, он тебя посвятит в детали.
Видимо, теплело в воздухе после ХХ съезда. Понадобились инициативные. Вот и нашли. А я клюнул. Казалось, вот в Горкоме уже никто не помешает приближать то самое будущее. Про выбивание членских взносов и ежемесячной отчетности из первичных комсомольских организаций я, конечно, еще не знал.
Дома, однако, снова страсти:
– Ну, что у тебя за шило в заднице? То МГУ, то комсомол! Чего тебе, плохо в мореходке? Потом локти кусать будешь, да поздно, останешься без профессии!
Мать в слезы. Отец только из рейса, он молчит. В общем, обманул я их. Тайком перевёлся на заочный и… По утрам забегал к Юрке, менял форменку на костюм и на работу в Горком. Родители догадались, когда нам вдруг поставили домашний телефон, большую редкость в ту пору в Одессе. Но на этот раз они уже промолчали. По-моему, и на курсе мало кто знал, куда исчез социалист-утопист. Диплом мне чертила бригада из трех студенток Водного института. Такое вот получилось высшее инженерное образование…
В это время в городе шла битва за студенческий клуб. Вопрос решался на бюро горкома партии. Я вспомнил Ленина на броневике и поднял руку. Той речи аплодировали члены бюро. И клуб КГБ – трехэтажный особняк возле парка Шевченко был передан студентам Одессы. Такое оказалось возможным в 1963 году…
Во Дворец студентов из подвала на Малой Арнаутской сразу переехал «Парнас-2», студенческий театр миниатюр Жванецкого. Миша трогал души одесситов печальной иронией, шутя наигрывал нравственные мелодии послесталинского времени. Мы смеялись, как он хотел, а он хотел, чтобы мы чувствовали иронию там, где раньше был один официоз.
На майской демонстрации. Всегда с народом:))
Репетировали смешную сценку из эпохи немого кино: толстяк Додик Макаревский сидел на стуле и смотрел в зал, как на экран. А за его спиной суетились, фехтовали два мушкетера Витя и Рома, повторяя известные сценки, от которых зритель, то есть Додик, замирал от ужаса, хохотал, плакал, вытирая большое свое лицо клетчатым платком, словом, переживал так, что уже, в свою очередь, хохотал зал. Спектакли в переполненном зале – это стоны восторга сползающих на пол от смеха зрителей.
Надо быть гением, чтобы выделиться на фоне одесской манеры прикалываться по любому поводу. Эту ехидную улыбочку с прищуром, которую лет через 10 – и уже навсегда – узнает вся страна, мы видели каждый день. Через несколько лет уже в Москве мы встретимся как добрые друзья и он подарит эту фотографию, которая теперь украшает мою коллекцию нечаянных автографов на солнечной стене квартирки в Лос-Анджелесе.
Мы дружили. Но неуютно мне в лучах хоть чьей-то славы. Великих выставляя напоказ, мы служим им облезлою оправой…
На наши вечера бились толпы, как волны, в тяжёлые, дубовые двери старого дома, похожего на средневековый замок. Дворец студентов стал модным местом. Мы беззаботно кувыркались в волнах всяческих полусвобод хрущевской оттепели. Придумывали молодежное кафе, студенческие капустники, дискуссионные клубы, турпоходы в катакомбы и в Крым по горам, напевали грустные песни бардов.
Весенним ветром из Москвы в Одессу занесет автора, подарившего нам тогда своими песнями запретное еще недавно чувство грусти и светлой печали, независимое от гимнов и маршей. Этого автора звали Булат Окуджава. Сначала мы грустили под его «Последний троллейбус». Потом он приехал сам, Булат Шалвович. Вечер в одесском политехе был не единственным, но там я был с ним рядом и успел почувствовать покорившую меня сразу жертвенность, незащищенность…
Кто бывал на Дерибасовской, знает кафе «Алые паруса». Это мы придумали безликому учреждению общепита это гриновское имя. И снова в Горком партии: дайте первому в стране молодежному кафе сниженный финплан. Дали! Избрали молодежный совет, врубили рок-н-рол, и началась на Дерибасовской новая жизнь. Гитара, бардовские песни, стихи Ахматовой, Пастернака и нашего Юрия Михайлика, фильмы «Чистое небо», «Летят журавли», «Судьба человека», «Коллеги», «Человек идет за солнцем». Повадились сюда и московские гости – журналисты, корреспонденты, писатели, писавшие об одесской вольнице.
Там я подружился с загадочным корреспондентом «Литературной газеты» Александром Асарканом, который приютит меня позже на пару дней в своей каморке большой коммунальной московской квартиры. Маленький, сутулый, равнодушный к еде и одежде, человек без возраста и столичного лоска, он будет писать мне из Москвы свои разрисованные вручную открытки.
Явление свободы в таком преобразовании казенных открыток
Вот она, та статья Володи Белова… Фрагмент. Но самый лестный.
Бывал у нас и Володя Белов, московский обозреватель журнала «Театр», ловивший в одесском театральном сезоне пульс свободы. После той поездки прислал он в Одессу свою питомицу, красавицу, внучку Сергея Лазо, подышать нашим пьяным воздухом. Я смотрел на нее, живого потомка героя гражданской войны с восторгом. С интересом – она на меня. Может быть, мелькнул образ комиссара в сером шлеме? Я тогда бредил революцией. Мы снова встретимся в Москве, уже во ВГИКе. Ада станет сценаристкой и женой режиссера. Мы будем общаться семьями…
А статью Володи Белова об Одессе в журнале «Театр» Асаркан пришлет мне тем же оригинальным способом, наклеенную на почтовой открытке. Из нее я узнал, «что девчонки, проходя мимо, оборачиваются и долго смотрят вслед», а также, что я «не из числа скучающих и равнодушных». Впрочем, последнее я и так знал. Журнал «Театр» мне в руки не попался, а открытка сохранилась на всю жизнь.
Валерий Цымбал, студент политеха и мой товарищ, именно тогда влюбился в очаровательную, тихую и застенчивую руководительницу изостудии Дворца студентов Зою Ивницкую. Она была не только женой известного в Одессе художника Русского театра Михаила Ивницкого, но и старше Валерки чуть ли не на двадцать лет. Чувствам не прикажешь, мы это уже отвоевали. Но в ужасе метались валеркины партийные родители. Он мне признавался:
– Стари-и-к, я теряю сознания от счастья. Что где? В постели, конечно! Скажи им, чтобы они от нее отстали, а то я сделаю с собой что-то ужасное.
Зоя мне доверяла:
– Никто ничего не понимает, это моя последняя любовь. Я нужна ему, как никто. Это наше счастье.
Валера с детства виртуозно шил себе брюки. И они действительно сидели на его тонкой мальчишеской фигурке. Мама с папой – обкомовские работники, а он себе шил брюки. Зоя успела оторвать его и от швейной машинки и от политехнического. Ездила с ним в Питер, и он поступил в Мухинское, на факультет театрального художника. Да еще на курс к Акимову. Не надолго. Почему-то его со второго курса забрали в армию. Но он успел познакомить меня с моей будущей женой.
Через полгода он приехал на побывку в Одессу и уговорил Лёню, поэта и культуриста, сделать ему сотрясение мозга. Эта гора мышц взяла его за голову, нагнула и двинула об трамвайные рельсы лбом. Не знаю, сильно ли, но две недели в больнице художник пролежал. И добился своего. Его комиссовали. Он вернулся в Питер доучиваться. Доучился. Халтурил в Худфонде, оформляя доски почёта в колхозах и совхозах Ленинградской области. Руки у него оказались золотыми: он изумительно делал театральные макеты, мельчайшие детали.
Иркутский драмтеатр пригласил его художником. Там он пристрастился пить, как… художник, но удержался. Женился на очаровательной однокурснице, с нею – уже в перестройку – поехал шить костюмы для танцев на льду в Нью-Йорк. Там же после смерти мужа оказалась и Зоя. Только на другом побережье, в Лос-Анджелесе. Зоя напишет прекрасную добрую книгу про театрально – художественную Одессу, посвятит ее своему покойному мужу Михаилу Ивницкому и умрет в 92 года в своей маленькой квартирке в Вест Голливуде среди друзей и учеников.
Пройдет почти 30 лет. Валера будет шить на заказ костюмы для фигуристов в подслеповатой комнате, окно которой выходит на знаменитую брайтоновскую деревянную набережную, виднеющуюся в узкую щель между грязными стенами каменных громад. Полгода шьет, полгода пьет. Язык так и не выучит, компьютер ненавидит. Верная жена Мила, питерская его однокурсница, талантливая художница, будет подрабатывать социальным работником, ухаживать за пожилыми. Как государственная служащий, она получит на себя и мужа медицинскую страховку. Это многое значит в Америке. О чем мечтаешь теперь, Валера?
Вот они, Мила и Валера 50 лет спустя
– Стари – и—к! Как только получим паспорта – сразу домой, в Питер. Не хрен здесь делать без языка и работы.
– А зачем же паспорта ждать?
– Ты чо? А вдруг операция какая понадобится? Я что, ее в России буду делать?
Но этот разговор случится уже в другом веке. И в другой стране. Между пожилыми людьми.
Да, так вот Одесса. Одесса 60-х не была провинцией. Не была она, кстати, и Украиной. Это скорее все тот же вольный город, город мореходов, город веселых торговцев, раньше других усвоивший азы теневой или альтернативной социалистической экономики. Ты мне – я тебе. Так и планы выполняли. А что? Хочешь жить, умей вертеться. И таки умели!
В Горкоме на мне сектор спортивно-массовой работы – это и культура, и досуг, и спорт. Меня поддерживает зав. отделом идеологии Петр Кондрашов, парень внимательный, умный, осторожный. Годы спустя мелькнет он в Москве, в высшей партийной школе. И исчезнет. Я думаю, по спецзаданию партии.
До 12 ночи светятся окна в единственной во всем гулком партийном здании комнате, от споров и сигарет стоит дым коромыслом. Через полвека, когда уже независимая Украина захочет вступить в Европейский Союз, и путинская Россия организует в ней «гражданскую войну», этот бывший Обком КПСС станет известным на весь мир зданием, где заживо сгорят люди, ставшие исполнителями чужой воли и жертвами чудовищной провокации.
Твердо помню, если какой язык и был в загоне, так это украинский. Дуже мы его, школьники, по преимуществу евреи и русские, учить не любили. В аттестате у меня одна четверка, по украинскому. Ну, и тройка по поведению. Только это не считается. Подумаешь, ударил учительницу по голове ботинком! А зачем меня за руку дергать, когда человек стоит на руках на перилах в пролете третьего этажа? Если б не на училку, так внизу пятном кровавым. В общем, тройка в четверти за поведение, и уплыла моя серебряная медаль. Но певучий «Заповiт» Тараса Шевченко навсегда остался в моем сердце:
…Як умру, то поховайте мене на могилі,
Серед степу широкого, на Вкраїні милій…
Сектор спортивно-массовой работы в Горкоме – это еще и БСМ, бригада содействия милиции. Ну, или «легкая кавалерия». Это не отчеты и справки о членских взносах писать. Нам выдавалось оружие на время патрулирования на бульваре, в районе порта. Наши клиенты – фарца и проститутки. Одесса город портовый, он дышит уголовщиной. В моих советниках – бывший уголовник Володя М., асс оперативной работы. Брали с ним карманников, даже щипачей, только тяжкий труд домушников уже не нашего ума дело. Володя как-то спас меня. Передали ему, будто вечером кореша будут ждать в подъезде с железной трубой. Ночевал у Юрки, а трубу потом видел, валялась неподалеку.
Алла, Аленушка, проститутка четырнадцати лет от роду, глуха к моим искренним, желающим ей добра нравоучениям. Алые пухлые губы, синие глаза под светлой непослушной чёлкой:
– Что ты меня уговариваешь? Где твоё счастье – в будущем? А моё – здесь, сейчас. Я только выйду на шоссе под Ялтой, как первая же машина распахнёт дверцу, и начнётся такая жизнь, которой ты и не видывал, комсомолец: ноги целуют, магазины, рестораны, отели, курорт круглый год. Дай же хоть чуть-чуть пожить, не терзай душу!
И умолкну я после этих взрослых слов, сникнет пафос строителя коммунизма перед голой, бесхитростной правдой ее жизни. В камере предварительного заключения, где она будет ждать отправки в детдом, мы встретимся еще раз. Я приеду, и она уткнется носом мне в грудь и тихо заплачет. И все. Больше я ее не увижу. Никогда.
В нашем кругу выделялась изящная хрупкая Ира Макарова. Утончённая выпускница ленинградской Академии живописи, она поливала советский официоз изобретательным матом и с неподражаемым сарказмом издевалась над моей общественной активностью.
– Что ты там делаешь в своем Горкоме? Это же абсолютно бесполезная банда бездельников! Один ты чего-то суетишься. Когда тебе уже надоест, Бенвенуто?
Это она меня так называла именем скульптора, ювелира и скандалиста эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Я отшучивался, даже не вдумываясь в ее язвительные шуточки. Мне нравилось то, что я делал в комсомоле. Однажды гомеровским гекзаметром ко дню рождения на специальном свитке написала она критическую оду восторженному комсомольцу. Но почему-то продолжала со мной водиться…
Ира была вхожа в узкий круг не очень «идейных» поэтов и художников Одессы. Художники Олег Соколов, Юрий Егоров, Саша Онуфриев, поэты Юрий Михалик, Леня Мак – где-то рядом существовал опасный мир инакомыслящих, к которым тянуло любопытного комсомольца. Мак, культурист, увалень и философствующий поэт, был мне ближе всех. Но и он был другим. Писал непонятные стихи: «…и тихо-тихо куришь в отдушину чужой души…» Плевался при слове комсомол. В споры не вступал, просто читал свои печальные стихи. Тихим был. Но однажды на улице двое пристали к женщине. Он взял обоих за шиворот, легко приподнял и свел лбами. Аккуратно положил обмякшие тела на тротуар, и мы пошли, куда шли. Учился Лёня в политехе, где папа его кафедрой заведовал. Да не доучился. Стихи оказались важней.
В конце концов, поссорился с родителями и укатил в Ленинград. К какому-то неизвестному мне тогда Бродскому. Читал на прощанье, закрыв глаза, его стихи, от которых сладко ныло сердце:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы…
В Питере нанялся он в экспедицию на Памир, тюки таскать за академиком. Потому что был он штангистом, бугристым как камни ледникового периода. Недаром днем и ночью молот метал на пустыре за нашей школой. Сила его не раз выручала. Тогда в горах попала экспедиция в снежный завал. Двое суток отогревал своей огромной массой тщедушного академика, снег руками раскапывал. Вытащил – таки! Академик его потом не отпустил, перевел к себе на океанографический. Брал и в кругостветку в морскую экспедицию. Тут его тормознули органы, ясное дело, по пятому пункту. Кому ясно, а ему нет. Друг мой выслушал приговор, сдал свой студенческий и уехал в Воркуту изучать жизнь зэков. Там и закончил, наконец, свое образование в Горном институте. На него смотреть ходили: он со штангой в 100 кг приседал как раз 100 раз.
Потом грузчиком в порту, грузчиком на кондитерской фабрике. И все стихи писал. Жену взял русскую, миниатюрную статуэтку – Ирку нашу, Макарову. Не сиделось в Одессе, укатил в Москву на Высшие сценарные курсы. Тарковский его сразу возьмёт в свою группу.
В Одессе, на киностудии стал помощником режиссёра у Говорухина, дописывал по ночам сцены с Высоцким, и писал, писал стихи. Пока его в КГБ не вызвали с подачи Михалика, одесского поэта – стукача. Он на очной ставке взял в лицо ему и плюнул смачно. Тогда его не били. Может, боялись, кабинет разнесет в щепки? Но требовали отречься от своей антисоветчины. Он там им тоже нахамил. Ну, его и выслали из страны. Развели с Иркой и выставили. Осталась мать с двумя детьми терпеть позор и презрение.
В Нью-Йорке работал Леня таксистом, язык учил. Потом инженером в нефтяной компании. Зачем-то женился, пока ждал Ирку. От того брака еще двое детей. Нужно было их кормить – стал риелтером, толкал дома в Лос-Анджелесе. Риелтер, если не дурак, это деньги. Вот и дом купил себе у подножия гор. Пришло время – развелся. Дом с прудом у балкона отдал жене и детям. Вернулся к стихам. Одинокий. Гордый. Одержим глобальными идеями и проектами. В России вышел том его стихотворений. Утверждает, что счастлив.
А Ирка, что ж Ирка… Дети уже выросли, переженились. Она жила там же, на Фаунтейн, близ русской церкви, которая и приютила ее много лет назад. Ничего американского к ней так и не прилипло. Пройдут годы, и она еще станет крестной матерью моего второго сына, Ивана. Которому суждено будет родиться в Америке по время полугодичного путешествия за рулем от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно…
Вот он, одесский поэт и культурист Лёня Мак спустя каких-то 50 лет. В Америке.
Тогда, в обманные 60—е, я робел и помалкивал в их компании, не умея вникнуть в смысл поэтических головоломок, как и разгадать код абстрактных полотен Олега Соколова, за дружбу с которым чуть не схлопотал выговор в личное дело. Донес инструктор горкома комсомола, похожий на Урию Хипа тип с красивой фамилией Снигирев. Но меня влекли эти люди, тревожил дух их глухого, как мычание, протеста. Чего-то знали они, как и Юрка Бровкин, наверное, чего не доходило до меня, не доставало. Вера в светлое будущее освещала мои горизонты. И шел я к нему безоглядно мимо пленумов и съездов, как мимо ристалищ, капищ…
Бурлила Одесса 60—х молодым задором Дерибасовской, Ланжерона и Аркадии, веселой гульбой возвращавшихся с путины китобоев флотилии «Слава», мелодиями Дунаевского из «Белой акации» в исполнении любимца публики Водяного, победами футболистов «Черноморца», любопытными туристами-иностранцами с их прилипалами-фарцовщиками. Позже назовут нас поколением хрущевской оттепели, шестидесятниками, детьми ХХ съезда, хотя настоящих шестидесятников, там, в Москве, уже публично поносил и оскорблял тот же Хрущев-освободитель. Московские гости рассказывали, как кричал он на нашего кумира Вознесенского, топал ногами на скульптора Неизвестного, обещая заморозки и даже мороз вместо оттепели. Оттепель же в Одессе задавил лично секретарь обкома КПСС Синица, который, конечно, был больше нас в курсе дела.
В одесском горкоме теперь приоткрылись мне тайные пружины советской партийной власти. Банкеты на весь рабочий день в рыбацких совхозах Отрады и Люсдорфа в так называемых инспекционных поездках с милицейским начальством. Столы, накрытые на свежем воздухе, полны деликатесов. Коньяк, водка – вина не жаловали, дамский напиток. Когда они только работают, и те и другие? Но молчу, я теперь один из них, кого льстиво поит и кормит местное начальство. За что только? Жду разговоров о деле, о цели приезда. Что-то не слышно. В чем же суть инспекции? Может, в том, чтобы показаться, напомнить, что мы есть и все видим. Впервые тогда где-то внутри шевельнулось подозрение, что тут что-то не так.
Разные бывали заседания бюро горкома. Рассказывали, как теряли сознание здоровенные мужики, лишенные партбилетов за ту или иную провинность перед партией. У меня на столе тоненькая книжечка – телефонный справочник для служебного пользования с именами и отчествами должностных лиц в Горисполкоме, Горкоме партии, Горздравотделе, ГОРОНО, Жилищно-коммунальном хозяйстве, милиции – словом, всех тех, кто принимает решения в городе. Часто просто по звонку между собой решаются важные вопросы. Номенклатура? Народная власть? А я что делаю среди них, если мне все противней видеть их лица?
Проходная сила спецпропусков в страну изобилия и тишина покрытых ковровыми дорожками спецбуфетов, услужливость служебных машин и сладкий номенклатурный мир всемогущества – вот я здесь, внутри, вплотную, кажется, приближен к тайне власти, и все равно ускользает она, как блудливые взгляды коллег в ответ на мои вопросы. Осторожность, осторожность, осторожность: как бы чего не ляпнуть, не нарушить тайну власти, не загреметь самому.
Но уже что-то и прояснилось. Как-то вдруг оказалось, что власть эта никакая не народная! Это встроенный в общество тайный механизм, роль которого заставить нас трудиться, даже жертвовать жизнью, но с чувством выполненного долга. А тайна, все эти «для служебного пользования», «секретно», потому, что управлять – не пахать. Это сладкая, полная скрытых соблазнов и привилегий жизнь египетских жрецов, лиц посвященных… Я еще недавно хотел здесь служить людям. И служу, но чувствую, что против течения. Крутятся шестеренки большой машины, выполнявшей команды, спущенные откуда-то свыше, не то из Киева, не то из самой Москвы…
Последней каплей было то, что случилось однажды в Горкоме партии. Выгнал меня из своего огромного кабинета первый секретарь по фамилии Лисица. Я ввалился к нему прямо с поезда с фибровым чемоданчиком и в трикотажным штанах с пузырями на коленках. Спешил радостно поделиться впечатлениями и мыслями о Днепропетровском Дворце культуры, рассказать, что и как будем делать в нашем Одесском Дворце студентов. Спешил к старшему товарищу. А он там из глубины своего необъятного стола с телефонами, просверлил меня неприязненным взглядом, как обыскал, и вдруг цыкнул, подавшись вперед, как на шавку:
– Куда ты пришел в таком виде, сопляк? Это Горком партии, а не Привоз. А ну, вон отсюда!
Несколько секунд я стоял, не шелохнувшись, осмысливая сказанное, пока густая краска заливала лицо и шею. Не нашелся, что ответить и ушёл, пятясь, тихо притворив за собой тяжёлую дверь, не смея взглянуть на секретаршу. Думала ли эта лисица, что убивает сейчас человека, которого хотела вырастить и таки вырастила его партия? Я верил картине Серова «Ходоки у Ленина». А он?
Цинизм кучки посредственностей, создавших свой остров изобилия в море всеобщей нужды и унылой покорности, не хотелось переносить на всю партию. Наверное, мне попались не те коммунисты. Пройдет целая вечность, пока жизнь своими жерновами перемелет зерна веры-идеологии в муку сомнений, и горький вывод большого русского писателя Виктора Астафьева: «Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна…» станет черствой горбушкой хлеба, что испечется из той муки… И жевать нам ту горбушку и жевать, пока мы не сделаем того, что давно получилось у людей во всем Западном мире: поставим эту власть под контроль.
Прошла молодость, а с ней и краткие шестидесятые. Нет уже кафе на Дерибасовской угол Екатерининской с чудным названием «Алые паруса». Но тянет туда занозистая память, живет в далеком уголке души свободный дух оттепельных скоротечных лет.
Брожу по Одессе, ласкаюсь к камням…
Да здесь я, да здесь я! – шепчу я ветвям.
Бреду, спотыкаясь о мягкий асфальт…
Мой голос не тенор, не бас и не альт,
Мой голос… Пусть стены услышат мольбу! —
Я жить без тебя не могу, не могу!