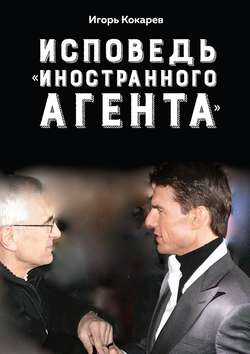Читать книгу Исповедь «иностранного агента». Как я строил гражданское общество - Игорь Евгеньевич Кокарев - Страница 6
Часть I.
До Перестройки… За социализм с человеческим лицом…
Глава 3.
Mon amoir, Каратау.
Нам песня строить и жить…
ОглавлениеПод дудочку неотразимого проповедника добра Вадима Чурбанова, приславшего мне тот самый номер «Комсомольской правды», я порвал с судьбой морского бродяги и начал все заново. В трудовой книжке появится запись: «Отозван в распоряжение ЦК ВЛКСМ».
Москва! Живу в гостинице «Юность», работаю в ЦК рядом с двумя Чурбановами (Вадимом и Юрием, будущим мужем Галины Брежневой) над культурным десантом на ударную комсомольскую стройку в Каратау, Южный Казахстан. В ушах звучит: «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги…» Туда, туда голубые города будущего строить! А какое же будущее без библиотек, кинотеатров, музыкальных школ, спортзалов, плавательных бассейнов, молодежных клубов, театров и театральных студий, без художественной самодеятельности? Там твое место, парень. Если не трус. Кто трус? Я? Да я… Да голубые ж города…
Вадим качал головой, подначивал:
– Проверь себя, моряк, чего стоишь…
Вот и рабочий поселок Чулактау, недавно переименованный в город Каратау. Здесь с 1946 года согласно Генплану строился и недостроился комбинат химических удобрений. Теперь это «жемчужина сельского хозяйства». Так назвал сам Хрущев фосфоритоносный бассейн в Джамбульской области. И возобновилось строительство и шахт и горнообогатительного комбината, понадобились срочно рабочие руки. И стройка торжественно была объявлена всесоюзной комсомольской. Население поселка сразу выросло до шести тысяч.
Каратау с воздуха открывается сначала красной от мака степью, потом небольшим озером и, наконец, несколькими выжженными солнцем улицами, застроенными казенными пятиэтажками. Ни единого деревца. В центре городской площади – каменная коробка. Это клуб «Горняк», культурный центр поселка. Ну, что ж, здравствуй, сияющее будущее в одном отдельно взятом месте среди глухой казахской степи. Каратау, mon amoir! Так обращался я к красным макам до горизонта. А что конкретно делать, еще не знал.
У Горкома партии. Прибыл в долгосрочную командировку.
Пока звал за собой из Одессы поэтов, художников, друзей.
– Мы, ребята, культуртрегеры, будем сеять прекрасное, доброе, вечное. Без них зачем нам эти фосфориты?
Первым Леня Мак откликнулся, но просвистел мимо, на конезавод. Решил объезжать скакунов вместо того, чтобы радовать людей своей поэзией. Двое художников из круга тех самых, за которых я когда-то в одесском Горкоме схлопотал выговор, тоже откликнулись. Даже долетели до Москвы, получили командировки ЦК ВЛКСМ, но в последний момент слиняли с командировочными в неизвестном направлении. Вадим хотел объявить всесоюзный розыск, да я отговорил: что с них взять? Свободные художники…
Красивая дочь безрукого циркового артиста и моя одноклассница Бэлла Дадеш вдруг пришлет короткую телеграмму:
– Я твой солдат. Вылетаю. Встречай.
Обалдеть… Еще одна женщина, моя любимая учительница Ольга Андреевна, решится оставить Одессу ради мечты. Видно, верила тем, кого воспитала. Но для Ольги Андреевны не найдется здесь работы, а Бэлла, попрежнему грациозная и гордая, найдет свою судьбу в Алма-Ате, не сумев связать ее со мной, увлеченным чем угодно, только не семейным счастьем.
На знаменитую в 60-х годах комсомольскую стройку под песни Пахмутовой съезжалась тем временем молодежь со всех концов страны. Не было бы этих песен, думал я, не полетели бы в глухую казахскую степь из домашних гнезд десятки тысяч девчонок и мальчишек. Великая духоподъемная сила, эти песни. Целина, БАМ, Каратау – вот адреса, по которым устремлялись романтики 60-х. Жили в палатках и вагончиках, не в уюте же счастье! И не подозревали, что они все еще винтики большой машины, у которой давно уже нет двигателя…
В комнате рабочего общежития – кровать с продавленной железной сеткой, стол у окна с видом на степь, два стула и два шкафа. Шкафы пусты, вещей у меня нет. Здесь будет библиотека. Еще есть тетрадь для записей и шариковая заграничная ручка. Я готов.
Горком комсомола кооптировал уполномоченного ЦК нештатным секретарем по идеологии. Стал понемногу вникать в местную жизнь, знакомиться с людьми. Бродил по поселку, взбивал японскими пластмассовыми штиблетами мелкую пыль щербатых тротуаров, заглядывал в окна. И довольно скоро понял, что не только романтики собрались в этих местах. Приехал народ и за длинным рублем. Здесь все же зарплаты с коэффициентами, довольно большие. Молодые приезжали парами заработать на семью, на будущее где-нибудь в теплых краях. Дай им работу, нормальные условия жизни, тронь какие-то душевные струны, и останутся жить здесь навеки. И ничем их от романтиков не отличишь.
Но была и третья категория, с которой пришлось столкнуться лицом к лицу, когда в Каратау пришел поезд с 240 добровольцами из Ленинграда. Горком встречал их цветами и оркестром. А оказалось, что прислали нам тунеядцев, высланных из города на Неве решением суда. Питер, ты что, охренел? Это же комсомольская стройка, а не лагерь! Хотел послать им туда пару теплых слов, но посмотрел в испуганные глаза прибывших и передумал. Потом поговорим, когда освоятся.
Перво-наперво они должны понять, что здесь все же не Магадан, здесь нет бараков с колючей проволокой, нет вертухаев с овчарками. Хотя не бог весть и какой комфорт. Общежития в пятиэтажках с горячей водой. Свет есть, даже туалет есть в коридоре. Кухня есть, общая, тоже в коридоре. Главное городское развлечение – фильм по субботам в клубе «Горняк». И танцы по воскресеньям там же, для чего убираются стулья. И водка в субботу, воскресенье и все остальные дни. Один книжный киоск, один детский сад и одна школа. Чего еще надо? Но так думала местная власть, не я. Жить-то все равно надо по-человечески, особенно в городе будущего, как обещали.
Позже, воюя с дирекцией комбината, с горкомом партии за нормальный быт и городскую культуру, я понял, что в своем раже выполнить задание партии и перевыполнить его они воспринимали нас именно так – как дурачков, готовых добровольно заменить собой заключенных, строивших и Комсомольск и Беломорканал и многое чего еще в невыносимых условиях. Во всяком случае ни в какой энтузиазм эти взрослые дяди, прошедшие войну, не верили и человеческие условия для жизни создавать не собирались. Да и не умели, как я понял. Они служили партии.
А местный, казахский колорит мало способствовал очеловечиванию жизни на краю Ойкумены. Ну, что взять, например, с комсомольских здешних вожаков? Второй секретарь горкома комсомола, казах, едет на газике в степь, берет барана у колхозного пастуха, как свою собственность, отдает забить его и, сварив дома мясо в прокопченной, мятой алюминиевой кастрюле, гостеприимно сует мне большие куски в рот руками. А чубатый русский первый секретарь (здесь первый – всегда русский) подливает водку своему семилетнему сыну, приговаривая:
– Учись, сынок, коммунизм строить. Пригодится!
С первого взгляда было видно, что с социальной сферой здесь облом. Главное для начальства – производственные показатели и выполнение плана. А качество жилья, досуга и развития личности – это для речей. Сами жили по-спартански. Аврал, временные трудности… Эту ситуацию надо переломить. Как, я еще не понимал, чувствовал лишь, что людей крепко обделили, и предстоит выводить их из безразличия, распахнуть окна, приблизить культуру. Я хотел, чтобы люди чувствовали себя, как в Москве. А не как в ГУЛАГе…
Потому и готовил еще в Москве культурный десант. Первой появилась здесь бригада Московской консерватории. Альтистка Галка, нежная душа, рослая красавица с обложки журнала «Огонек», сдержала слово. Привезла музыкантов и музыковедов, будущих знаменитостей.
– Вот и мы! А ты не верил! – торжествовала она. И плавилось солнце в дрожащем от жары воздухе. Мы трясемся в автобусе по пыльной дороге в Джаны Тас, где шахты. Надев каски, спускаются консерваторки в клети, пригнувшись, осторожно ступают. Темно и душно в шурфе. Экскурсия, однако. Позже в столовой я прерываю академическую лекцию по истории музыки и говорю усталым шахтерам:
– Сейчас будет чудо. Вы просто слушайте и молчите. Обязательно ждите. Не отвлекайтесь.
И мелодии Сарасате из нежной скрипки Андрюши Корсакова полились в сердца, открытые ожиданию. Вот, клянусь, ТАК эти здоровые мужики слушали музыку первый раз.
А за музыкантами месяц спустя прилетели и вгиковцы. В клубе «Шахтер» представляли студенты нашумевший в столице фильм «Девять дней одного года». Дискуссия о физиках и лириках после просмотра. Ведущего дискуссию комсорга ВГИКа Юру перебивает голос из зала:
– Ты, киновед, нам лапшу на уши не вешай. Мне завтра не к синхрофазотрону, а к лопате с утра вставать! У вас своя жизнь, у нас своя.
– Но вы же хотите видеть свой завтрашний день, правда? Вы же строите город будущего! – возражает Юра и смотрит на меня.
Ему отвечает другой голос из зала:
– Мы бы построили, да только то раствора нет, то инструмента. Стоит стройка. Что от нас зависит? Ничего!
Теперь уже я смотрю виновато на Юру. Вместо обсуждения высокого искусства началось обсуждение низких истин. В принципе мне это нравится. Для чего еще нужно искусство, если не для пробуждения умов и сердец?
С Юрой Гусевым и Таней из нашего актива – о жизни споры…
Вгиковцы проводили социологическое исследование. Что здесь читают, смотрят, слушают? Какие духовные запросы, чем живут, во что верят? Народ, кстати, отвечал охотно. Даже о том, о чем не спрашивали. Кто-то об отсутствии воды для промышленных нужд, кто-то про то, что комбинат вообще по чужим чертежам строится. Ответы анонимные, так что и расспросить подробнее некого. Я слышал, что комбинат хотят сдать под ключ раньше срока. Не знал, что строят по чертежам другого завода, что за Полярным кругом. Только тот комбинат перерабатывает хибинские аппатиты. А у нас фосфориты. Может, оно и так сойдет, кто его знает. Говорят, что аппатиты, что фосфориты, почти одно и то же.
Из ЦК комсомола пришли книги, потом кино-фото лаборатория, можно вести летопись стройки. Пришел, наконец, и агитавтобус с надписью «Красная гвоздика». Мы долго бились с Горкомом, чтобы переименовать его в «Алые паруса». Добились. Вокруг него и возникла наша художественная самодеятельность. Из тех питерских «тунеядцев», кстати, подобрался отличный творческий коллектив. К искусству тянулись люди, это факт. Две девчонки как запели, так воздух степной зазвенел. Высоко уходил звук, к звездам. Казах появился среди нас с домрой, так этот инструмент назывался, кажется. Красиво звучали странные, монотонные мелодии, степь их услышала сразу, ну, и мы, русские тоже что-то почувствовали. Еще подумалось, вот где жизнь настоящая… Здорово, когда душа поет, хоть в степи, хоть в море, хоть в городе. В море, правда, не пелось…
А один парень стихи читал:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Я как услышал, так вздрогнул. Он глянул на меня, остановился. Я продолжил:
– Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
Он закончил тихим, глубоким, как будто уходившим в сухую землю под ногами голосом:
– …И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
От него я впервые узнал, что как раз в это время двадцатидвухлетнего Иосифа Бродского судили за тунеядство, и сослали на пять лет в Архангельскую область, в какую-то глухую деревню. Мы сидели у общежития всю ночь и говорили, говорили. Водка из горла и обжигавший горло «Беломор». Были такие папиросы. Пачку за пачкой, не тормозя. После той ночи я и бросил курить… О чем говорили? О Таганке и Современнике, об «абстрактном гуманизме», о будущем и о любви, о смысле жизни здесь и сейчас… да мало ли о чем можно говорить ночью в тысячах километров от всякой цивилизации? Просто момент истины.
А утром именем комсомола выбивали у комбината помещения под библиотеку, под изостудию, требовали открытия еще одного детского садика, музыкальной школы, филиала ВУЗа. Дошли до требования построить спортивный зал и лодочную станцию на озере.
Вечерами репетировали скетчи о местном быте, потом сидели у костра. Просили ребята рассказать про Бразилию, Японию, Сингапур, про скитальцев морей. Послушают, помолчат, представляя штормы и дальние страны, кто-то тронет струны и затянет, тихонько так. И звучат, как когда-то в Одессе, и Булат, и Кукин, и Визбор, и Клячкин. Какие яркие звезды здесь над головой… Может это и есть счастье? А было мне тогда двадцать четыре года. Думалось, вот мое место, здесь, с вами, ребята. И такими понятными нам казались тогда слова Назыма Хикмета:
…Если я гореть не буду,
Если ты гореть не будешь,
Если мы гореть не будем,
Кто ж тогда развеет тьму?
Самонадеянно стирая грань между столицей и провинцией, выписал не доходившие сюда раньше журналы «Новый мир», «Юность», «Иностранная литература». Так возник литературный клуб. Читали по очереди Аксенова, Кузнецова, Приставкина, стихи Окуджавы, Ахмадулиной, Евтушенко…
Тихой лунной ночью шли мы с репетиции. Ночная степь пахла сухими цветами. Вдруг сзади сгустилась опасность. За спиной нарастал глухой топот. За нами гнались?
– Бежим! – выдохнул я, и мы понеслись. Злая, тупая темная сила догоняла. Дышала в спину. Кто? За что? Я сбросил вьетнамки. Сзади чем-то больно полоснуло по шее. Челюсть хрустнула. Зубы? Не оглядываясь, впрыгнул в дверь общежития и успел захлопнуть ее перед разъяренной темнотой.
В госпиталь, куда меня положили с выбитыми солдатской бляхой зубами и рассеченным затылком, пришли стройбатовцы извиняться. Оказывается, они искали курда, который изнасиловал невесту одного из них. Про местных курдов я еще не то слышал. Здесь их целое поселение. В армию их не берут, они не граждане СССР. Они охотятся за русскими девушками, ибо по их законам ребенок, рожденный от курда, считается курдом. Так они пополняли убыль своего народонаселения. Красавцы входили в женское общежитие, запирали дверь и начинали по очереди оплодотворять всех. Одна вскочила на подоконник:
– Не подходи, выброшусь!
Он подошел. Я видел кровавое пятно под этим окном. Их даже не судили. Откупились, говорили знающие люди.
Жили рядом с нами в Каратау и переселенные народы: немцы с Поволжья, чеченцы, почему-то даже греческие колонисты с паспортами своего греческого королевства, наезжали трудолюбивые китайцы, свободно пересекавшие границу в поисках жизненного пространства и работы. Но заметней всех были красавцы курды. На стройке же комбината по переработке фосфатного сырья в минеральные удобрения в основном трудились российские романтики вперемежку с сосланными тунеядцами.
Между тем отношения с Горкомом партии и дирекцией комбината обострялись. Мешали мы им своей активностью. Вот, например, добился я поставить на бюро Горкома партии вопрос ремонта клуба «Горняк». Мы предлагали своими силами, народным методом починить крышу, добавить комнаты для кружковой работы. Члены бюро разводят руками:
– Не мы решаем. Нужно письмо в ЦК КПСС Казахстана и в Совмин Казахстана с проектом Постановления «О постановке культурно-массовой работы и культурного строительства в Каратау».
Не знаю, верить, не верить. Но письмо сделали. В письме кроме критической части предлагался план не только ремонта, но и строительства спортзала, водной станции на озере, полноценной библиотеки, музыкальной школы и, конечно, народного театра.
На письмо почему-то откликнулся секретарь ЦК комсомола Казахстана. Приехал сам на машине из Алма-Аты:
– Я за тобой. Выступишь на Пленуме ЦК. Ты готов?
Я готов. Как тогда в Одессе, отбивая здание у КГБ для студентов. Только на этот раз аплодисментов не было. Выступил и выступил. Езжай обратно. ЦК разберется. По сей день разбирается.
Когда вернулся, узнал, что на меня в КГБ пришла анонимка. Местный особист показал. Читай, говорит.
«Сообщаю вам, что никакой этот Кокарев не моряк. Ни в какой одесской мореходке он не учился. Заграницу не плавал. Диплом поддельный. Это проходимец, который морочит нам всем голову. Считаю, что им надо заняться органам».
– Что это такое? – спрашиваю.
– Как что? Обыкновенная анонимка. Как раньше писали, так и сейчас пишут. А ты не знал? Так что разоблачили тебя, вожак комсомольский.
Думаю, шутит особист? Он-то знает, что перед решением ЦК о назначении на стройку мое прошлое не раз рентгеном просветили. Но из головы не выходит: вот так, значит, выглядят доносы. Пустяк? А такой бумажки, нацарапанной неизвестно кем, может быть и соседом, достаточно, чтобы попасть под раздачу. Расстрел или десятка в лагерях, через этот кошмар прошли миллионы…
Ну, думаю, раз уж анонимки пошли, надо торопиться. Сажусь и пишу в «Джамбульскую правду» открытое письмо. Что-то вроде того, о чем говорил на Пленуме. Удивительно, но его напечатали под названием «Кладовая фосфоритов все еще на запоре».
– Доносы строчишь, сучонок? – это главный инженер шахты, мимоходом. Может, послышалось?
– А то, что вы молодежь кинули, обманули голубыми городами – это как называется?
Молчать – значит покрывать. Я подписался своим именем. Но все оправдывался перед собственной совестью… Не выдержал, написал в Москву Вадиму Чурбанову. Был в том письме такой пассаж: «Поднять народ на хорошее дело, Вадим, мы умеем. Здесь тысячи энтузиастов. А вот зачем? Зачем только „Комсомолка“ тем сентябрьским номером всколыхнула страну? Приехали тысячи, хотя и сотни бы хватило. Да ведь и сотня здесь не нужна… Из пушки по воробьям!»…
Так надо же, Вадим взял и передал письмо в «Комсомольскую правду»! А там его напечатали. И прилетела корреспондентка «Комсомольской правды» разбираться. В ситцевой коротенькой юбчонке показывала она днем свои загорелые ноги, а вечером, сев за стол напротив и разговаривая с Володей о мировых проблемах, мягкой босой горячей ступней нащупала под столом у меня то место, которое сразу затвердело и заныло от желания. Володя, инженер, к которому я заходил поиграть в шахматы и поговорить о жизни, все быстро понял, постелил нам на полу и ушел.
– Ты всегда такой серьезный? – спросила корреспондентка, деловито раздеваясь. – Мне говорили в редакции. Я не верила.
– А ты вообще, вы вообще там, в Москве во что -то еще верите?
Больше мы с ней ни о чем не разговаривали. И разбираться корреспондентка ни в чем не стала. Так и улетела…
Разобрался Петр Качесов, секретарь Горкома партии. Он нашел меня и сказал:
– Ты приходи вечером. Разговор есть, – и дал адрес.
Я пришел к нему домой. Сели. Бутылка водки на двоих – это немного. Выпили. Закусили. Поговорили. Мне нравился этот секретарь. Не знаю, участвовал ли он в махинациях с наградами, но со мной говорил он честно.
– Уезжай ты отсюда, прошу тебя. Хороший ты парень. Но… не мути воду, не воюй с ветряными мельницами. Чего ты добьешься? Ну, закроют стройку из-за твоих статей. Кому от этого лучше будет? Обещаю: чего-нибудь да построим. Не в первый раз. А ты уезжай учиться куда-нибудь. Дадим тебе хорошую характеристику. Прости фронтовика. И голос его дрогнул. Или мне показалось?
Хорошо, что эту историю комсомольцев-добровольцев мои давние собеседники – американцы Диана и Джим на белокрылой «Литве» никогда не прочитают… Так шаг за шагом выходил из меня, уходил в историю мой Папка Корчагин. Вяли красные розы, осыпались лепестки иллюзий. Тихо, без фанфар, разъезжались золотые ребята, кто куда. Домой стыдно, хорошо страна большая. Куда деваться нам, Родина?
Через годы сведет меня случайная встреча с жителем тех мест и тот расскажет, во что превратится комсомольская стройка 60-х. В 90-х покинут дома оставшиеся без работы люди, и будет он стоять вымершим, с разбитыми ветрами окнами. Не сдержал слова грустный фронтовик…