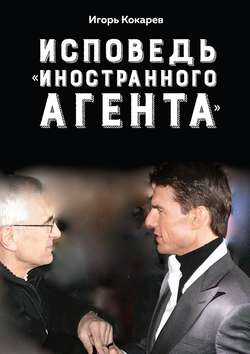Читать книгу Исповедь «иностранного агента». Как я строил гражданское общество - Игорь Евгеньевич Кокарев - Страница 5
Часть I.
До Перестройки… За социализм с человеческим лицом…
Глава 2.
Прости, батя, моряк из меня не получился…
ОглавлениеВ одной руке диплом инженера – механика судовых силовых установок, в другой – заявление об уходе:
«Прошу направить на работу по специальности.»
Бельтюков молча подписал заявление. Видно, понял, что перебрал с инициативой. Но на его круглом лице ничего не отразилось. Сдал я свою волшебную красную книжечку – удостоверение инструктора Горкома комсомола, вспомнив напоследок, как оно работало.
Дело было в Москве, на Зубовской, где сестра приютила меня на несколько дней командировки. Из этого ветхого деревянного строения забрала меня милиция за избиение ее ревнивого мужа. Не бил я его, конечно. Просто когда увидел замахнувшуюся на сестру руку, поднял его за воротник и выбросил в закрытую дверь. Дверь выпала вместе с ним на улицу. Он заорал, стал рвать на себе одежду и звать милицию. У меня забрали паспорт, уволокли в отделение, сунули за решетку, как бродягу без прописки. Очнувшись, я попросил взглянуть на мое удостоверение. Дежурный уставился на красные корочки испуганными глазами:
– Так что ж вы сразу не сказали, Игорь Евгеньевич?
И все сразу изменилось. В камеру затолкали его, а меня с извинениями доставили обратно к сестре. Там мне досталось уже от нее. Но загадочный документ вызвал и у нее уважение…
Помню, как легко после Горкома дышалось в грохочущем дизелями, пропахшем горячим маслом машинном отделении белокрылого лайнера «Литва»! С борта издалека буду рассматривать с изумлением и понятной тоской недосягаемую и всегда почему-то солнечную и теплую заграницу. У пассажирского судна ночью переход, днем стоянка в очередном порту.
И замелькали города и страны. Стамбул с запахами жареной рыбы на причалах, Латакия с солнечными пляжами, Хайфа с ее висячими садами, шумная Александрия с египетской экзотикой, золотой Бейрут с уличными базарами, Фамагуста с легендарным замком Отелло, древние Афины, зеленоводый Дубровник с крепостной стеной и прозрачными бухтами – группами по пять человек бегом по магазинам и обратно на судно. Адреса известны заранее, как и места на борту, где прятать от таможни вещи на продажу. Если свой не заложит, за короткий двухнедельный рейс можно годовую зарплату перекрыть. Моряки загранплавания были обеспеченными людьми в Одессе.
На борту тоже кусочек заграницы. Роскошные салоны, круглосуточные бары, бассейны, сауна, музыка и танцы, и длинноногие соблазнительницы в купальниках, в шезлонгах. Пожилых пассажиров глаз как-то не замечает, видимо, болезнь юности. Суда германской постройки, все новенькое – чистота. Медью блестят поручни, краны, ручки, вешалки, пока не свинтит их, не унесет вместе с туалетной бумагой советский турист. Сезон закончится, и ободранное судно поплетется в Болгарию на ремонт, восстанавливать туалеты и каюты… По весне – все сначала.
В Средиземном море жарко, в малюсеньких каютах матросов и мотористов душно, спим на двухъярусных койках, завернувшись от жары в смоченные под краном простыни. Как отец смог отплавать сорок лет, не представляю. Чем жил, если он видел нас три месяца в году? О чем думал, слушая бесконечный шепот трущихся о борт волн?…
Вахта на судне по четыре через восемь. Моя с 4-х ночи до 8-ми утра. Потом с 4-х дня до 8-ми вечера. Долго привыкал вскакивать ночью без десяти четыре, потом отвыкал еще лет пять. Зато вечер твой – бары, музыка, танцы с жадными до приключений незнакомками. Сначала это заводит, но любительниц круизов все прибывает, а в мозгу мысль: и что, вот так рейс за рейсом, год за годом? В отделе кадров удивились, но просьбу удовлетворили, послали плавать на танкер.
В Хиросиме, на верфи Мицубиси, принимал только что выстроенный для СССР танкер серии «Л» – «Луганск». По тем временам – гигант: 64 тысячи тонн дедвейт – это водоизмещение. Два главных двигателя и два огромных винта дают до 32-х узлов. По палубе можно на мотоцикле гонять. Лифт на восемь палуб. Всюду автоматика и лабораторная чистота в машинном отделении. У каждого просторная каюта с иллюминатором, с душем и кондиционером. На верхней палубе бассейн, волейбольная площадка, стол для настольного тенниса, гири, штанга. Не работа – курорт! Но очень отдаленный…
А вот Япония мне не открылась. Видимо, не готов был к встрече. Справочников не читал, в музеи не ходил, экскурсий нам не положено. Японская жизнь-скороговорка только раздражала. Клуба дружбы моряков, как в Одессе, здесь не было. А на улицах много ли узнаешь? Тебя видят, ощупывают взглядом и проходят мимо. Не интересны мы им. В кафешках и забегаловках, однако, американский рок. Кажется, уже никто и не вспоминает здесь о Хиросиме. Быстро заживают рубцы и раны в стране Восходящего солнца.
Несутся японцы дружно из метро на работу, делают по команде зарядку – подняты руки в сотнях окон. И снова за столы. Работа здесь – святое дело. Потом врассыпную разбегаются, как насосы всасывают толпы метро и поезда. Четкий ритм этого огромного организма поражает. Вот нам бы такой народ, никаких репрессий не надо…
Лучи осеннего японского солнца ласкают чистую кожу. Плещемся в бассейне. Лечу ласточкой с вентиляционной трубы. Высота метра три, глубина бассейна – два. Входишь в воду почти плашмя, руками успеваешь оттолкнуться от дна. Никто повторить не решался. И хорошо. Кому нужны сломанные шеи? Настольный теннис на верхней палубе. Второй помощник капитана, однокашник Валера Борисов хвастается покупками:
– Смотри, чем комсостав подтирается!
Впервые вижу рулоны нежнейшей туалетной бумаги. Интересно, а куда они газеты девают? Играем на спор. Я ставлю комплект пластинок Поля Анка. Он – рулоны. Проигрываю.
– Заходи, дам подтереться.
Дружно жили, весело.
Наконец, прошли ходовые испытания. Прилетела из Москвы остальная команда, всего нас теперь 57 человек. Капитан подписал документ о приемке, и «Луганск» взял курс на Сингапур. Прощай, Япония! Каждый везет сбереженную валюту до Сингапура. Там, говорят бывалые, тот самый знаменитый «малай базар». Сингапур, город без тени, солнце в зените, жара за сорок – уже на траверзе. Бросили якорь. Стали на рейде.
И вдруг… Радист принял экстренное сообщение: 22 ноября 1963 года в Америке убит президент Джон Кеннеди! Убийца – американец Ли Харви Освальд, подготовленный в СССР. Мы задержаны на рейде, капитан со старпомом таможенным катером доставлены к местным властям. Что дальше? Мне не страшно, так как я уверен, мы ни при чем. Это их дела бандитские…
А нас пока атакует тот самый «малай-базар». Как пьявки, присасываются к бортам десятки джонок, летят из них крючья, цепляются на фальшборт, быстро карабкаются по шкотам и лезут на палубу темнокожие, проворные малайцы и быстро-быстро теми же крючьями втаскивают тюки с товарами. Так же молча и шустро тянут трос от борта к переборке, разбросывают по палубе плавки, майки, рубашки, джинсы, пестрые женские кофточки, обувь. Наглый малаец сует мне колоду карт:
– Иди, – говорит, – в туалет!
Зачем в туалет? Мельком вижу – это порно, а по трапу уже поднимаются они живьем, юность планеты. Идут, играя бедрами, навстречу нашим жадным взглядам. Ой, что делать?
– У вас в каюте есть туалет? Мне очень нужно, сэр! – передо мной длинноногое, открытое любви существо. Оливковые ее глаза насмешливо смотрят прямо в душу.
К себе? В каюту? Что ей ответить? Как вести себя в подобных случаях, ччерт!! Даже если впущу, и что? Что с ней делать? Даже угостить нечем…
Сигнал громкой связи выводит из ступора:
– Внимание экипажа! Всем свободным от вахты выдворить шлюх с судна!
И вот они уже дисциплинировано спускаются по трапу, всем своим видом показывая, чего мы лишились.
– Russian оnanist! – я уже слышал эти обидные выкрики от европейских красоток вдоль узкого Кильского канала в Балтийское море. Единственные во всем мире, кому не разрешены их соблазнительные услуги. Но онанизмом мы не занимались, как ни странно…
Командование вскоре вернулось на борт, шипшандер пополнил запасы еды, вахтенные подняли якоря, и «Луганск» взял курс на Южную Америку. Плывет сталь, не тонет, вокруг океан и такое же без границ небо. В машинном отделении кондиционер, на приборах трепещет стрелками напряженная жизнь судового сердца. Делать на вахте нечего. В Атлантике погода штилевая, идем ходко, акулы за нами не поспевают. Стакан рислинга после обеда (положено на экваторе!) и загорай до вахты, читай, пиши, думай о смысле жизни… Только мое чтение закончилось еще на берегу. Учебники, захваченные с собой на борт для сдачи аспирантских экзаменов, валяются не открытыми. В море не читается, далеко за горизонтом осталась жизнь с ее страстями. Здесь мы другие. Акваланты. С виду нормальные, а внутри сохнет мозг без пищи… Не всякий для такой жизни.
Бразилия началась с того, что ночью на рейде у порта Сантос нас ограбили. Пока перекачивали нефть бортом к борту в маленький местный танкерок, поднимая осадку, шустрые бразильцы забрались на наши спасательные мотоботы и с одного борта обобрали их под чистую. Капитан махнул рукой: ладно, чего мелочиться? Братская помощь третьему миру.
Солнце встало, и сквозь золотистый туман мы увидели мечту Остапа. Вдохни этот маслянистый воздух, пропахший кофейными зернами, загадай желание. Пришли в порт узким проливом сквозь какие-то болота, пришвартовались среди таких же танкеров, сухогрузов. Первая партия сразу в увольнительную, вон они уже на берегу, нарядные, хрустят долларами в карманах.
А мы пока на вахте. Открыли окна в боках гигантских цилиндров и в их еще не остывшей утробе железным шкребком сдираем жирный чёрный нагар на раскаленном металле. В телогрейке, с нахлобученной ушанкой, с фонарём на поясе и с верёвкой на щиколотке, ныряешь в пекло. Веревка, это чтобы вытащили, когда сознание потеряешь. Выдержать можно минуты три, не больше. Окунёшь голову в ведро с водой, ушанку на уши и обратно.
Пришла, наконец, и наша очередь. Отмылись под душем. Мыло копоть не берет, только едкий антинакипин, от которого вылезают волосы. Но зато отмывает, оставляя только черные ободки вокруг глаз. В моей пятерке (по одному не пускали) – Вася, кок судовой, бывалый моряк. Он и повел нас сразу куда надо. А именно в аптеку, спирт покупать. Чудак, а где же ещё по такой цене, дешевле семечек? Хозяин аптеки долго не врубался, чего хотят эти иностранцы. Потом принес запылённую бутылку. Вася узнал, обрадовался, как ребенок. Давай, говорит, пусть стакан принесет.
Хозяин удивился:
– Зачем стакан? Вот тряпочка.
– Зачем тряпочка? Пусть стакан.
– Но у нас спиртом лошадей протирают.
– А у нас желудок полируют. Скажи ему.
Я не знал, как это перевести, но хозяин уже догадался сам. Шмыгнул в заднюю дверь, прибежали мать и дочь, стоят втроем, таращатся. А Вася свинтил крышку, налил в стакан и просто слил 200 грамм в горло. Обтерся рукавом и сказал хозяину:
– Давай ящик, 12 бутылок!
– И мне, и мне! – загалдела наша пятерка.
Аптекарь допытывался, кто мы, откуда. На слово «русские» никак не реагировал. Такая глушь, эта Бразилия! Вдруг имя Терешковой пробудило что-то в его сознании:
– А-а-а, коммунисты!..
Пока мы по очереди прикладывались к «лошадиной жидкости», обалдевший хозяин помчался на машине за товаром. Смотрим, возвращается, а за ним толпа. Любопытные. Как дикари, честное слово. Ну, мы им показали. Загрузили ящики в его машину и в порт. За нами процессия, поют, танцуют. Карнавал какой-то устроили из серьёзного дела. У проходной довольный аптекарь вручил нам каждому по мешочку бразильского кофе. Но тут случился конфуз. Оказывается, вывозить из Бразилии кофе мешками нельзя. Вася опять всех выручил. Достал припасенные два мерзавчика «Столичной» и вручил с краткой, но выразительной речью таможенникам. Те поняли, ворота открылись. Но на борту помполит сразу запер спирт в баталерку:
– Дома отдам!
Что ж, целей будут. Этим спиртом я буду спаивать Ленинградский комсомол, полюбивший ходить в гости к вернувшейся на родину из дальнего рейса команде… Тогда и возникнет Вадим Чурбанов, которому суждено будет развернуть мою жизнь на 180 градусов. Но это еще впереди.
Затерянный посреди Атлантического океана, я видел, как в кино, лики разных народов и рас, слушал под гул дизелей сообщение о запрещении испытаний ядерного оружия, призыв Хрущева ко всеобщему и полному разоружению, и ощущал, как пульсирует жизнь планеты. Где-то далеко-далеко… И наваливалась тоска: слышу, как ворочаются маховики истории, приближая светлое будущее, а я тут, в южных широтах, ишачу, сырую нефть туда-сюда. Для этого родился, книжки читал? Лежу после вахты на соленой палубе, хоть лижи ее, остывающую после тропического солнца, подрагивающую – это урчат в утробе ее дизеля. Запрокинув голову, смотрю на Южный Крест на синем бархате неба и ищу среди мерцающих звезд свою. Где она, родимая, путеводная?..
Под Кубой, у американской военной базы Гуантанамо настиг нас ураган «Флора». Вдруг молча стеной встал перед нами океан. Вздыбился ни с того, ни с сего. И ушел наш танкер в гигантскую волну, как подводная лодка. Надрывались дизеля, оттягивая киль от рифов. Течь в кормовом отсеке, где гребной вал. Я на вахте. Значит, мне в рыло водолазный костюм, ключи, набивку для пробитого водой сальника. Пошел! Бьет струя в маску, вырывает из рук пропитанный солидолом фитиль, но конопачу, закрываю течь миллиметре за миллиметром. Сделано. И снова в машинное отделение мотаться вслед за качкой от одной бортовой переборки к другой, следить за приборами. Вахта кончилась, но, сменщика нет, он блюет, принайтованный судовым врачом к койке. А танкер медленно, но неумолимо несет на рифы Острова Свободы. Завис над нами американский военный вертолет. Пилоты уже сбросили веревочный трап:
– Давай, русские, спасайся!
Но команды не было. Ураган ушел сам, как и пришел – внезапно, покрыв Сантъяго де Куба толстым слоем желтого ила, из которого торчали верхушки деревьев и трубы. «Луганск» загрузился сахаром и почапал домой. Тоска, уж совсем смертная, навалилась у родных берегов. Ни есть, ни спать. Лежал в судовом лазарете и бессмысленно смотрел в белый потолок. Судовой врач записал: нервной срыв, глубокая депрессия…
Одесса хоронила своих сынов. Гробы стояли в фойе Дворца моряков на Приморском бульваре. Люди запрудили Дерибасовскую, Пушкинскую, медленно двигаясь к гробам. Безмолвно расступалась толпа и пропускала сквозь себя моряков, опустив глаза вниз, отдавая вековую дань скорби по не вернувшимся. И уважения тем, кто снова уходил в море. Утонула в Бискайском заливе «Умань» с грузом железной руды. Перевернул шторм шестнадцать тысяч тонн железа, и ушли на дно наши товарищи с капитаном Бабицким на мостике. Спасшиеся молчали. С них взяли подписку не рассказывать, как грузили в Туапсе мерзлую руду, и как растаяла она в Средиземном море и сползла ее шапка на правый борт, и как в левый борт била волна и кренила и кренила судно, и как закачали баласт почему-то в верхние, а не нижние баластные танки, и как почему-то не стали кормой к волне и не взяли курс на ближайший порт Кадис, всего-то в тридцати милях.
Много лет спустя в далеком Лос-Анджелесе узнаю трагические подробности той ночи от 87-летнего Рудольфа Банта, стармеха «Умани», отправленного в отпуск как раз перед этим злосчастным рейсом. Старый моряк, он не только помнил моего отца, механика – наставника Черноморского пароходства. Он рассказал мне надтреснутым старческим голосом, как протестовал против неряшливой погрузки мерзлой руды второй механик, отказавшийся идти в рейс и тихо уволенный из пароходства после кораблекрушения. Как сцепились на мостике два авторитета, капитан и капитан – наставник, отвечавший за доставку груза, как из – за гордости не давали они SOS, как забыли закупорить гусаки вытяжной вентиляции баластных танков, и именно через них захлебнулась «Умань», способная сохранять плавучесть даже на боку… Пароходство списало все на шторм, уголовного дела даже не открыли. А оно надо, отчетность портить?
А что я? Трясусь на верхней полке в купе международного вагона, снова отправлен отделом кадров ЧМП на верфи Варнемюнде, в ГДР на приемку лайнера «Башкирия». Снова белый пароход… Интересно, чей запрос… Не Вадим ли Никитин, старпом, вставил мое имя в судовую роль? В ОВИМУ вместе прыгали в бассейн с пятиметровой вышки… Вадим был постарше на два курса, но, видимо, запомнил, взял в команду.
Почти полгода я буду ползать под пайолами – рифлеными листами палубы машинного отделения, проверяя на герметичность километры трубопроводов, прокручивать клапана, заглядывая в чертежи, а наверху светить солнце и жить своей жизнью страна, которую мы победили…
Картошка и сосиски у хозяйки по утрам, пиво в соседнем баре под немецкие песни по вечерам – вот и вся заграница. Здесь встают в пять утра, ложатся в девять вечера, после пяти закрывают магазины, после семи – ставни окон, городок вымирает до утра. На работе немец – без четверти шесть уже в рабочем комбинезоне. Ровно в три – он в душе. Чистая рубашка, костюм, велосипед и – домой.
Спросил как-то Ганса, пожилого рабочего:
– Как же вы, такие культурные, демократические, допустили Гитлера?
Он будто споткнулся в разговоре. Потом сказал хмуро, подбирая слова:
– Мы за это поплатились. У нас никогда больше не будет фашизма. А вот у вас, не знаю.
И замолчал, отвернулся. Я еще долго буду гадать, что он имел в виду.
Новенькая «Башкирия» третий месяц стоит на приколе в Вентспилсе, в Калиниграде, потом в Питере. Почему? Где круизы? Жизнь застыла, только спирт из Бразилии оживляет ее. Вадим намекнул в коротком разговоре: предстоит какой-то ответственный рейс. К нам вдруг зачастили комсомольские и партийные начальники. К нему партийные, ко мне – комсомольские. Во время тех застолий с питерским комсомолом и познакомился я с Вадимом Чурбановым, завсектором ЦК ВЛКСМ, который внушал доверие. С ним говорили по душам, моя стонала и даже билась в истерике, а он успокаивал:
– Люди, старик, и во власти бывают разные. Тебе просто не повезло.
Глядя на него, хотелось верить в идеалы. И потому легко утащил он меня в командировку в город Калач в творческой бригаде с писателем Леонидом Жуховицким, корреспондентом «Комсомольской правды» Игорем Клямкиным, с социологами и самим Вадимом во главе. Просто пришла телеграмма из ЦК на имя капитана. Мастер удивился, но махнул рукой:
– Езжай, все равно мы еще будем здесь болтаться без дела пару месяцев.
Мне так здорово не было еще никогда. Во-первых, мы в этой бригаде понимали мир одинаково, плохое называли плохим, хорошее – хорошим, и уже от этого было классно. Во-вторых, когда не хватало слов, пели песни. Их уже было напето в те годы немало: Окуджава, Клячкин, Кукин, Визбор… Высоцкий еще не появился.
Тогда, видимо, и пришла эта мысль: менять надо не суда, а свою жизнь. Так сказал Чурбанов. А спустя месяц после той поездки прислал «Комсомолку» с передовицей: «Комсомольск 60-х годов начинается». Это был вызов. И я не колебался. В Казахстане строится город будущего Каратау, жемчужина сельского хозяйства. Хрущев звал молодежь на комсомольскую стройку. Я вспоминал наши разговоры: власть можно и нужно очеловечить! Вадим звонил из Москвы, подзуживал:
– Ну, моряк, ты как? Поедешь коммунизм строить? Или шмотки из-за границы возить интересней? – как будто дразнил.
На борту «Башкирии» тем временем появились рабочие, стали ломать новенькие надстройки, что-то переделывать за капитанским мостиком. Расширяли радиорубку, ставили огромные антенны. Шептали, будто судно готовят к правительственному рейсу, самого Хрущева повезем в Скандинавские страны. Команде выдали новое обмундирование, премиальные. Народ приосанился, заважничал. Еще бы! А я собирал вещички в старый спортивный фибровый чемоданчик… Прощай, море. Извини, батя, моряк из меня не вышел.
Спускаюсь по трапу на глазах свободных от вахты товарищей. Задираю голову: стоит на мостике Вадим, прощается. Что это он показывает? Выразительно крутит пальцем у лба… Я понял и засмеялся, счастливый и свободный. Свободу захочет и мастер Никитин. Но та свобода дорого ему обойдется. Никто не знает своей судьбы…
– Не разбрасывайся, хлопчик. Потеряешься, – говорила еще в 9-м классе любимая учительница литературы, высокая, рыжеволосая, властная Ольга Андреевна Савицкая. Она открыла нам настоящую литературу, раздвинула горизонты. Она серьёзно относилась к нам, позволяя вольности в школьных сочинениях. Собирала дома литературный кружок, поила чаем с печеньем и учила думать. Опасное занятие. Мы с ней оба обожали Маяковского. А я еще и верил: «здесь будет город – сад». Она, на глазах которой фашисты раскроили головку ее ребенку – уже нет. Но не мешала верить мне.
А что значит, потеряешься? Потеряешься, если не искать, не пробовать. Так жизнь и потеряешь, сидя на одном месте. Сказал же Чурбанов: власть надо очеловечивать, проверь, на что сам способен. В тот день, сходя по трапу «Башкирии» на берег, я проверял. Эй, голубые города, я вас не обману! А вы меня? Я думал, мы там, на стройке, будем, наконец, хозяевами своей судьбы и своего города.
От рейсов тех дальних, от бескрайней сини океанов на всю жизнь в памяти этот томительный дух вечного бродяжничества, вдали от городской суеты и пыли, от житейских забот – только ощущение свежести обветренного и всегда загорелого тела, открытого океанским ветрам. И подрагивающая от работающих дизелей теплая палуба под ногами. Надо иметь особый характер, чтобы принять эту судьбу. Отец унес его с собой…
Летел в загадочный город Алма-Ата, мял в кармане командировочное удостоверение ЦК ВЛКСМ и маялся виной перед ними, морскими бродягами и трудягами, перед Санькой Палыгой, лучшим нападающим училища, которому в первый же день работы отрежет ноги и руку прямо в родном порту заблудившийся в темноте маневровый паровоз. Санька героически перенесет десятки тяжелейших операций в Москве и вернется в Одессу работать инженером – конструктором на берегу. Откажется калекой даже увидеть свою любовь, ночи проводившую под окнами его палаты. Будет воспитывать дочь от встреченной в больнице подруги, танцевать на протезах на товарищеских вечерниках. Дочь потом выйдет замуж и уедет с мужем в Америку, когда откроются границы и уже не будет в живых ее героического и доброго батьки.
В шторм под Ждановом перевернется баржа с агломератом температурой в 900 градусов, и сварится в том кипящем соленом котле Виталий Лабунский на глазах плачущего от беспомощности сокурсника, тянувшего эту проклятую старую баржу на буксире. Рванет паровой котел на стоянке в Риге, и погибнет наш Рыжий – вахтенный механик Мухин, один в ту ночь дежуривший на новом, плохо отлаженном судне. От качки в Атлантике сползет с решеток крышка вспомогательного дизеля, снятая талями на время ремонта, и прихлопнет свесившегося в цилиндр ремонтного механика. Голова его выкатится из нижнего люка цилиндра к ногам вахтенного моториста. Еще одна жертва моря вернется домой после восьмимесячного отсутствия, узнает от добрых людей про измену любимой жены и повесится в ванной на ремне от брюк. Попелюх, потеряв аппетит и сон от тоски в многомесячных переходах в океане, сиганет душной тропической ночью с борта на корм акулам. Команда хватится его только утром. Да где искать в бесконечных просторах?
Петр Иванкин, два метра ростом и центнер веса, добродушный Петя, об которого, споткнувшись, перевернулся однажды «Запорожец» на глазах у всех роты, станет у себя на Дону народным лекарем. Будет лечить детишек от заикания своим долгим и добрым взглядом, и слава о его лечебном гипнозе соберет к нему толпы страждущих, как к костоправу Касьяну под Полтавой…
Да не сможет и он помочь Бобу Ляшенко с женой Аллой, у которых родится немой и слепой сыночек с заросшим родничком. Одиннадцать лет своей жизни отдадут вечному младенцу Боря и Алла, белошвейка на фабрике имени Жанны Лябурб. Потом, когда не станет любимого дитяти, пойдут с тяпками и лопатами по хуторам и церквам, зарабатывая на хлеб и собирая по крупицам в степях и лиманах одесщины кривые корешки, лечебные травы, диковинные забытые цветы с достающими до самого сердца запахами. А на Сахалине будет трудиться водолазом их радость, старший сын Валька, расти внуки.
– Смотри, все брошено: и дома и профилакторий, и виноградники. Бери-не хочу, – махнув в сторону высыхающего Березанского лимана, скажет мне Алла, когда я уже в перестроечные времена приеду с семьей в эти степи к старому товарищу. Строгим голосом с непередаваемыми одесскими шуточками будет она давать уроки жизни моей юной жене и моим малышам, впервые попавшим из далекой, уже иностранной Москвы в настоящую деревню. Мы будем говорить с ней за жизнь.
Боря на пенсии. Он и его Алла «на фазенде», как говаривали в Одессе.
– Стране надо выдохнуть наше поколение. И не вспухай до того, не нервничай. Все так и будет, и лиманы не чищенные заиливаться, и абрикоса не убранная на землю сыпаться, и пьянь остатки по дворам подворовывать. А полынь – то какая, понюхай, подыши!
Олег Рындин – качок и сачок, живший в училище по принципу «не высовывайся!», отсидится в своем забытом богом Бердянске. Придет время – откроет семейный бизнес, диспетчерскую компанию на троих – себя, жену и сына, и будет на трех языках по электронной почте управлять из уютного офиса своим небольшим флотом, снующим по всему миру с такой нагрузкой, какой и не снилась диспетчерам Черноморского пароходства. И будет наслаждаться жизнью на Средней Косе, на собственной яхте.
Витя Корненко, уйдя на пенсию, станет православным писателем Виктором Корном. Усмотрев в расстреле царской семьи в Екатеринбурге ритуальное убийство, всемирный заговор евреев, займется Виктор собственным расследованием. Заклинило его на этом открытии, три книги уже издал. Написал и большую поэму о Наполеоне на острове Елена. Мы с ним рассоримся, когда в России начнется антиукраинская и антиамериканская истерия, случится захват Крыма и чудовищная та война…
Володя Шевяков, доктор наук и профессор, проработав на кафедре родного ОВИМУ все эти долгие годы, а, значит, без малого сорок лет, наоборот, не выдержит драмы безнаказанного разворовывания черноморского флота в независимой Украине, оставит все, забросит свой баян, на котором, бывало, играл под Новый Год на паперти у Оперного театра, и уедет под Волгоград в деревню Фролово школьным учителем.
Выброшенные до срока с работы, устроятся в самостийной уже Украине мореходы высшей квалификации кочегарами в котельные одесских санаториев. А утонченный Виктор Бородин, гордый солист училищной самодеятельности с лучшим в те годы тенором на Украине, не примет эту жизнь и умрет от разрыва сердца прямо в одном из кабинетов новых начальников, распродающих пароходство по суденышку. Якобы за долги, якобы за несоответствие регистру, якобы по остаточной стоимости…
Много лет спустя мой однокурсник Анатолий Фока, талантливый механик и доктор технических наук, профессор, напишет страстную обличительную статью «Гибель черноморского морского пароходства». Вот она, эта правда:
«…Понимая отсутствие компетентности у киевских чиновников, морские казнокрады быстро начали создавать атмосферу нерентабельности наших пароходств (а порою даже банкротства). Все меньше наших судов стало заходить в украинские порты, все больше грузовых операций проводились в портах чужих стран (при отличном состоянии наших портов), ремонт судов осуществлялся на иностранных базах (при дешевой и достаточно доброкачественной работе наших судоремонтных заводов), бункеровка судов происходила в чужих портах (несмотря на то, что стоимость топлива в то время у нас была весьма и весьма низкой).
Подобный подход при решении транспортных проблем позволил сместить все денежные операции (получение заработанных денег, расходы на ремонт, топливо, обслуживание) в иностранные банки, лишая Украину контроля за работой своего флота, за денежными потоками и, таким образом, возможности пополнения своей казны, но в то же время предоставляя возможность весьма вольготного запускания воровских рук в государственный карман.
Вот тут и появились золотые кредитные карточки начальника пароходства, персональные зеленые мерседесы и прочие атрибуты, так гармонично вписавшиеся в деятельность вчерашних честных и преданных партии совслужащих, а сегодня – уважаемых и активных деятелей независимой Украины…»
Анатолий Фока. Честь и слава нашего курса, как и Вадим Руденко, и Володя Шевяков, вошедшие в историю советского морского флота.
Простите меня, мореходы за то, что меня не было с вами. Но пусть услышит Саня Палыга, бросивший мне когда-то в кубрике:
– Что ты все других цитируешь? Ты свое придумай, тогда и выступай!
Я придумаю, Санёк. Дай срок. Я обязательно придумаю!