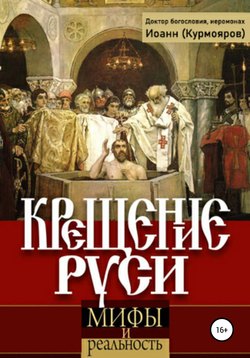Читать книгу Крещение Руси: мифы и реальность - Иоанн Курмояров - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1. Научные и околонаучные мифы
Глава 5. Историческая наука сегодня
Есть ли у человека свобода воли?
ОглавлениеПроводя данный анализ, мы будем избегать использования аргументов, говорящих о том, что в науке неоднократно происходили совершенно кардинальные перевороты, радикальным образом изменявшие общечеловеческие представления об устроении мироздания и человека. В том числе, нет необходимости обращаться и к многочисленным статьям креационистов. Статьям, в которых теория эволюции подвергается жесточайшей критике. Также нет ни малейшей необходимости опираться на строго религиозные представления об устройстве мироздания и наличии души в человеке. Достаточно будет проанализировать вышеизложенную модель с точки зрения самой науки, т. е. с точки зрения голых научных фактов.
Т.к. именно с этой точки зрения вышеизложенная концепция развития вселенной, человеческого общества и сознания выглядит более чем сомнительной.
Во-первых: к сожалению, сегодня, в сознании большинства людей, и в том числе в сознании многих ученых все еще доминируют псевдонаучные взгляды атеистической эпохи. Так, например, в конце 19-го века в кругах ученых господствовало твердое убеждение о том, что научная картина мира в целом предельно ясна, а самим ученым остается лишь уточнить некоторые ее детали. Согласно этим взглядам, все события во Вселенной строго детерминированны (т. е. могут быть предсказуемы) и степень их предсказуемости зависит лишь от точности измерений[125].
Проблема же состоит в том, что в строго детерминированной Вселенной, а именно о такой вселенной говорит нам классическая наука, не может быть места для СВОБОДЫ ВОЛИ и в этом случае человек действительно представляет из себя более сложную, нежели животные, но все же БИОЛОГИЧЕСКУЮ МАШИНУ. Однако уже в самом начале 20-го века были сделаны научные открытия которые полностью опровергали эти скоропалительные выводы: «Оказывается, что даже в классической механике Ньютона возможность предсказать движение системы для достаточно больших промежутков времени, как правило, ограничена. В современной квантовой физике возможность однозначных предсказаний ограничена еще сильнее, и сам математический аппарат сориентирован на вычисление вероятностей различных процессов»[126].
Во-вторых: не все так просто с детерминизмом и алгоритмичностью человеческого сознания. Дело в том, что сама концепция строгого детерминизма содержит в себе явное логическое противоречие, а именно: с точки зрения детерминизма человек может (чисто теоретически) с абсолютной точностью рассчитать все прошлые и будущие события во вселенной, но при этом, зная все события как прошлого, так и будущего (теоретически), на практике человек может поступить с точностью до наоборот. Некоторые ученые пытаются ответить на это противоречие тем, что с точки зрения математики расчет всех (в том числе, и будущих) событий не представляется возможным. Но, все же, вне зависимости от того, можно ли на практике проделать все эти вычисления или нет, всегда остается вероятность развернуть вспять закон причинно-следственных отношений (он же – принцип детерминизма). Поэтому, даже являясь сторонником детерминистского устроения вселенной, никогда нельзя утверждать с абсолютной точностью, почему тот или иной конкретный человек (или, допустим электрон[127]) поступил так, а не иначе, т. е. являются ли его действия следствием тех или иных причин, либо же он, по меткому замечанию Канта, «сам от себя начал состояние»[128], т. е. фактически сделал то, что никак не вытекало из его прошлых действий, т. е. не являлось прямым, а может быть даже и косвенным следствием тех или иных событий.
Более того, сегодня вопрос о свободой воли выходит из чисто философской плоскости и все более и более занимает умы крупных ученых (хоть и ясности в этом вопросе до сих пор не наблюдается). Фундаментальная наука пока (и, видимо, в принципе) не может ответить на этот основополагающий вопрос, но тех противоречий, которые возникают при принятии строго детерминистской концепции мироздания, вполне достаточно для того, чтобы большинство ученых отнеслось к этому вопросу со всею серьезностью: «Вопрос о свободе воли представляет собой реальную, а не вымышленную проблему – но она в высшей степени нетривиальна и ее трудно сформулировать адекватно»[129].
В-третьих, с устроением нашего сознания дело обстоит не менее запутано, но и здесь с очевидностью доказано, что оно не имеет строго алгоритмического характера. В этой связи один из крупнейших ученых современности Р. Пенроуз в своей книге «Новый ум Короля» пишет следующее:
«Мои рассуждения в том виде, в котором они представлены в книге, направлены на достижение двух целей. Первая из них – это стремление показать, опираясь главным образом на результаты, полученные Геделем (и Тьюрингом), что математическое мышление – а, следовательно, и умная деятельность в целом – не может быть полностью описано при помощи чисто «компьютерной» модели… Тем самым, в формировании нашего сознания с необходимостью есть элементы, которые не могут быть получены из какого бы то ни было набора вычислительных инструкций; что, естественно, дает нам веские основания считать, что сознательное восприятие – процесс существенно «невычислимый»[130].
Короче говоря, наше сознание никогда не будет работать как хорошо запрограммированный компьютер, а компьютер, в свою очередь, никогда не сможет в точности скопировать человеческое сознание: «тогда как бессознательные действия мозга происходят в соответствии с алгоритмическими процессами, действие сознания имеет совершенно иную природу, и поэтому не может быть описано никаким алгоритмом…Чтобы решить, будет ли алгоритм действительно работать, нужно глубокое понимание, а не просто еще один алгоритм… Моменты прозрения, когда математик или физик внезапно вскрикивает «Ага!», по мнению Пенроуза, не могут явиться «результатом сколь угодно сложных вычислений»: в эти мгновения разум соприкасается с объективной истиной…»[131]
Конечно, это довольно трудный вопрос для анализа и разные ученые по разному пытаются его решить, но вывод о том, что наше сознание не алгоритмично, для многих ученых сегодня является абсолютно доказанным фактом. Так, например тот же Джон Полкинхорн утверждает:
«Роджер Пенроуз возродил так называемый аргумент математической логики, который, по его мнению, показывает, что человеческая мысль превосходит все, что возможно достичь в помощью компьютера. Он апеллирует к работам логика Курта Геделя. Последний показал, что в любой достаточно сложной аксиоматической системе, которая содержит математические величины (например, если в ней есть величины нескольких порядков 1, 2, 3…), всегда существуют теоремы, которые хотя и могут быть сформулированы в рамках этой системы, но они недоказуемы внутри нее. Такая система была бы аналогична программе, запущенной на мировом компьютере, – так называемой машине Тьюринга. Доказательство этого фундаментального и поразительного вывода зависит от формулировки высказывания (геделианского предположения), истинность которого математики признают, но которое не проверяется исходя из логики рассматриваемой системы. Пенроуз считает, что это доказывает превосходство математического мышления над компьютерным»[132].
В-четвертых, к самой модели Д. Деннета (на которую опираются некоторые исследователи при изучении тех или иных социо-культурных феноменов прошлого) сегодня, в научных кругах, предъявляются серьезные претензии. К примеру, с точки зрения этой материалистической модели невозможно решить так называемый «парадокс китайской комнаты»[133], как, впрочем, и невозможно раскрыть тайну человеческой личности:
«Ну нет в марксизме терминов для самопознания человека…, – пишет известный православный богослов диакон А. Кураев. – Базовые определения (марксизма, – прим. автора) звучат так: «Душа – это сложный комплекс эмоциональных реакций на окружающий мир». «Мысль – это всегда отражение материального мира». Это определения через проявления, через действия. Но где же субъект этих действий? Кто «отражает»? Кто «реагирует»? Этакая улыбка Чеширского кота: улыбка есть, а кота нету!.. «Я мыслю – следовательно, я существую». Кант эту тайну моего существования, мою несводимость к моим же действиям и проявлениям назвал «вещью в себе». Ну, не равен я тем клавишам, на которые сейчас нажимаю в моем компьютере! И вообще, не хочу я быть «совокупностью общественных отношений» и «отражением материального мира»! Я могу творить эти «отражения» и менять материальный мир. А материализм, растворяя меня в мире природного детерминизма, не может объяснить мне, отчего же я столь творчески не похож на слепой и бездумный мир, порождением и частью которого якобы являюсь. На удивительный вопрос людей: «Что же еще нам может быть дано знать, кроме всей совокупности объектов нашего познания?» – есть простой и совершенно самоочевидный ответ: за пределами мира объектов знания остается по крайней мере сам умственный взор, на него направленный. «Я не могу встретить мое я (как объект познания) по той простой причине, что оно есть тот, кто встречает все остальное. Это похоже на то, как иногда человек ищет в комнате очки, сквозь которые смотрит; он их не видит, потому что видит сквозь них. Самое больше открытие, которое может сделать человек, – это открытие своей собственной души», – справедливо пишет Семен Франк»[134].
В-пятых, само устроение нашего сознания с точки зрения эволюционной теории выглядит несколько странным, т. к., согласно данным науки, развитие человеческого мозга закончилось более 100 тыс. лет назад, т. е. уже тогда человек обладал фактически таким же мозгом, как и современные люди (в частности этот мозг был уже тогда способен решать уравнения высшей математики и т. д.), и с точки зрения этого факта невозможно объяснить, каким образом в процессе эволюции 100 тыс. лет назад в человеческом мозге закрепилась совершенно не нужная ему тогда функция (пригодившаяся 100 тыс. лет спустя)? Ведь, как известно, в процессе эволюции ненужные признаки не закрепляются. В этом смысле вполне логичным звучит вопрос заданный Ч. Дарвину одним из его друзей: «А зачем обезьяне мозг философа?»
И действительно: «Если мозг – компьютер, возникает вопрос: а кто его запрограммировал? Обычный ответ на этот вопрос: эволюционная необходимость отточила нейронные процессы для того, чтобы они отвечали требованиям выживания. Разумеется, в этом ответе может содержаться истина. И все же сложно поверить, что он предполагает полное и точное объяснение всех мысленных способностей человека. Наши мыслительные способности серьезно превосходят то, что можно с увереностью приписать требованиям естественного отбора. Например, какой ценностью для выживания обладает человеческая способность понимать субатомные процессы квантового мира или структуру космического пространства? Считать такой излишек умственных способностей только счастливым случаем, побочным продуктом какой-то более приземленной необходимости, кажется неубедительным. То же самое можно сказать и о других человеческих способностях»[135].
Трудно не согласиться с Р. Пенроузом, говорившем о том, что его не покидает ощущение: «что в самой эволюции, в ее явном «нащупывании» пути к какой-то будущей цели есть что-то загадочное и непостижимое. Кажется, что все организовано несколько лучше, чем оно «должно было быть» на основе слепой эволюции»[136].
В этом же русле воспринимается и меткое замечание Джерри Форода, который воскликнул однажды: «Если в моей голове обитает сообщество компьютеров, тогда здесь, по идее, должен быть кто-то, кто заведует ими; ей-богу, было бы лучше, чтобы это был я»[137].
Конечно, проблема свободы воли и механизмов функционирования человеческого сознания – это труднейшая проблема, решение которой вряд ли возможно в ближайшем будущем. И вполне может быть, что эта проблема окажется в принципе неразрешимой в рамках научного поиска. Но даже учитывая все вышеприведенные аргументы становится ясно, что человек не является простой (пусть даже и очень хорошо устроенной) биологической машиной. Он не компьютер, а свободная, личность, обладающая огромным творческим потенциалом и способная управлять своим бытием вне зависимости от причинно-следственных отношений.
Вне зависимости от того, хотим мы соглашаться с этим выводом или нет, мы вынуждены констатировать, что человек оказался гораздо сложнее описанного нами примитивно-материалистичного мифа. Мифа, который слепила о нем марксистско-ленинская пропаганда, да и в целом – философия материализма.
К сожалению или к счастью, но приходится признать тот факт, что мы, люди, все же обладаем свободой воли и поэтому несмотря на то, что многое из того, что нас окружает, действительно является следствием длительного эволюционного процесса (проще было сказать просто «исторического процесса»), мы всегда можем пойти против течения, т. к. человек обладает способностью сознательно управлять своим бытием (вплоть до того, что он может вообще отрицать или прекратить свое существование). Если бы мы были полностью детерминированными существами, что могло бы нам гарантировать то, что мы являемся сознательными существами? Разве тогда наша речь, письменность и многое другое не были бы просто следствием автоматических действий? В этом случае, кстати, всем сторонникам разного рода детерминистских и материалистических теорий можно было бы смело рекомендовать отречься от своих многочисленных утверждений и выводов, чтобы тем самым спасти свои собственные идеи от отрицания.
Думаю, вряд ли кто-либо из них способен на это, и причина этому та, что человек не машина, он может творчески управлять как собой, так и развитием общества и культуры. Он может, в частности, направлять развитие культуры в то или иное русло, может вообще создавать культуру заново или выбирать между теми или иными культурными феноменами.
Человек может строить свою жизнь, отталкиваясь не от культурного контекста, в котором он существует, а исходя из решения вопросов поиска Истины и смысла жизни. И это не голословное утверждение. Так, например, в современной психологии аксиомой является утверждение о том, что человек отличается от животного как раз своей сознательно регулирующей деятельностью (одной из функций которой является смыслообразование).
Смыслообразующая функция мотива деятельности является необходимым условием для нормального существования человека[138], т. к. для любого сознательного поступка человеку необходимо четкое понимание того, имеют ли его действия смысл и вообще имеет ли смысл вся совокупность действий, произведенных человеком на протяжении жизни? Попросту говоря, человек должен знать – в чем состоит смысл (цель) его жизни?
Этот вывод подтверждается тем, что очень часто в человеческой жизни вопрос поиска смысла жизни (поиска Истины) может являться определяющим в выборе человеком той или иной системы мировоззрения, а она уже, в свою очередь, будет определять и последующую, т. е. вытекающую из нее модель поведения и т. д.
125
«В отличие от квантовой классическая теория (речь идет о Ньютоновской классической физике, – прим. автора) является детерминистской, поэтому будущее в ее рамках всегда полностью определено…» (Р. Пенроуз. Новый ум короля: о компьютерах, мышлении и законах физики. Москва, 2003. С. 127–128.)
126
М. И. Кацнельсон. Буриданов осел и шредингеровская кошка.: http://virlib-old.eunnet.net/mif/fr_set.jsp?tnum=5$n0199$6
127
Так по мнению некоторых, довольно авторитетных ученых: «Наиболее точное и полное описание природы должно быть только вероятностным. Однако некоторым физикам такой способ описания приходится не по душе… В свое время эта проблема очень сильно волновала Эйнштейна. Он часто качал головой и говорил: «Но ведь не гадает же господь бог «орел-решка», чтобы решить, куда должен двигаться электрон!». (Р. Фейман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Феймановские лекции по физике. Издательство «МИР». Москва, 1965 г. С. 119–120.)
128
«Под свободой в космологическом смысле я разумею способность самопроизвольно начинать состояние. Свобода в практическом смысле есть независимость воли от принуждения чувственности» (И. Кант. Соч. Т.3.М.1964. С.478.). Однако еще в 4-ом веке, задолго до Канта, свт. Иоанн Златоуст дал почти такое же определение свободе воли: «Душа, тело и воля в сущности не одно и то же, но первыя суть творения Божии, а последняя есть движение, рождающееся из нас самих, которое мы направляем куда хотим» (Св. Иоанн Златоуст. Избранные творения. Беседы на послание к Римлянам. Издательский отдел Московского Патриархата. 1994 г. С.639)
129
Р. Пенроуз. Новый ум короля: о компьютерах, мышлении и законах физики. Москва, 2003. С.143.
130
Р. Пенроуз. Новый ум короля: о компьютерах, мышлении и законах физики. Москва, 2003. С. 11–14.
131
«Мы должны «видеть» истинность математических рассуждений, – пишет Р. Пенроуз, – чтобы убедиться в их обоснованности. Это «видение» – самая суть сознания. Оно должно присутствовать везде, где мы непосредственно постигаем математическую истину. Когда мы убеждаемся в справедливости теоремы Геделя, мы не только «видим» ее, но еще и устанавливаем неалгоритмичность природы самого процесса «видения»». (Р. Пенроуз. Новый ум короля: о компьютерах, мышлении и законах физики. Москва, 2003. С. 332–335. 338.)
132
Джон Полкинхорн. Наука и богословие. Введение. Библейско-Богословский институт св. Апостола Андрея. Москва. 2004 г. С.69.
133
«Еще один аргумент в защиту утверждения об ограниченном характере компьютерной модели – философское высказывание Серла о китайской комнате. Вы сидите в запертом помещении. Через решетку люди подают вам кусочки бумаги с написанными на них иероглифами. Вы находите соответствующие иероглифы в большой книге, которую вам дали, и срисовываете соседние с ними иероглифы. То, что вы нарисовали, вы протягиваете сквозь другую решетку. Вы не имеет никакого представления о том, что происходит, но на самом деле, те иероглифы, которые вы получаете, – это вопросы на китайском, а то, что вы срисовываете, – осмысленные ответы на них. Таким образом, понимание того, что происходит, содержится не у вас в голове (в компьютерном процессоре) и не в большой книге (программе). Пониманием происходящего владеет только автор этой книги. Компьютер может оперировать синтаксисом, но не семантикой, он может следовать заложенным в него грамматическим правилам, но ему недоступен смысл. А ведь понимание фундаментально для человеческого мышления. Это утверждение также вызвало горячие споры, но и Серл удерживает свои позиции. Одна из характеристик компьютерных программ – то, что они могут работать на любом пригодном носителе (силиконовые чипы, или искусная система трубопроводов и шлюзов, или еще что-нибудь). Если люди все-таки не «компьютеры из мяса», возможно, причина этого нечто специфическое в самом этом «мясе»? (Джон Полкинхорн. Наука и богословие. Введение. Библейско-Богословский институт св. Апостола Андрея. Москва. 2004 г. С.70)
134
Диакон Андрей Кураев. Диспут с атеистом. Издание Сретенского монастыря. Москва. 2007 г. С. 172–174.
135
Джон Полкинхорн. Наука и богословие. Введение. Библейско-Богословский институт св. Апостола Андрея. Москва. 2004 г. С.70
136
Р. Пенроуз. Новый ум короля: о компьютерах, мышлении и законах физики. Москва, 2003. С.336.
137
Н.С. Юлина. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета. Российская Академия наук. Институт философии. Канон+. Москва 2004 г. С.174.
138
«Именно … слияние обеих функций мотива – побуждающей и смыслообразующей – придает деятельности человека характер сознательно регулирующей деятельности. Ослабление и искажение этих функций – смыслообразующей и побудительной – приводят к нарушениям деятельности…» (Б.В. Зейгарник. Патопсихология. Издательство Московского университета, 1986 г. С. 102–103.)