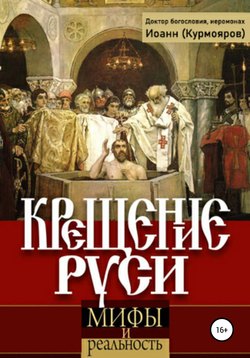Читать книгу Крещение Руси: мифы и реальность - Иоанн Курмояров - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1. Научные и околонаучные мифы
Глава 1. Проблемы духовного состояния российского общества 18-го, 19-го, начала 20-го веков
Кризис в отношениях между государством и Церковью
ОглавлениеБезусловно, подобное состояние дел сложилось не сразу. Истоки духовного кризиса, поразившего русское общество 19-го – начала 20-го века, берут свое начало в допетровскую эпоху. Однако не будет преувеличением сказать, что основной маховик этого процесса (процесса духовно-нравственного разложения) начал раскручиваться благодаря реформам Петра Великого[21].
Отмена патриаршества на Руси и фактическое установление светской власти над Церковью неминуемо привели к тому, что Православная Церковь в России стала превращаться в служанку государству, в некое подобие государственного «ведомства по делам религии»: «Начиная с Петра Первого светское правительство смотрело на Церковь как на одно из учреждений государственного аппарата, нуждавшееся в опеке и надзоре. Для этого правительству понадобилось сломать старый строй церковного управления, сочетавший в себе соборное начало и Первосвятительство, а на его место учредить новую, синодальную систему. Утверждением Святейшего Синода открывалась новая эпоха в истории Русской Церкви. В результате реформы Церковь утратила былую независимость от светской власти… В петровской реформе коренятся причины многих недугов, омрачавших церковную жизнь двух столетий»[22].
Крутая церковная реформа Петра Великого, введенная вопреки почти всеобщей оппозиции русского народа, оказалась на деле необыкновенно прочной, устойчивой, глубоко укоренившейся в сознании всех правительственных поколений 18-го и 19-го веков. Как метко заметил святейший Патриарх Кирилл: «Петр Первый подчинил Церковь, сделал ее частью государственной машины»[23]. А видный русский историк А. В. Карташев писал по этому поводу следующее:
«Сколь ни стирали наши крупные историки (Соловьев, Ключевский, Платонов, Милюков) мифологический налет на эпохе Петра Великого путем углубленного прояснения непрерывности исторического процесса, в котором нет перерывов и сказочных скачков, но после всей их критической чистки еще бесспорнее установилась обоснованность проведенной нашими предками разделительной черты в русской истории общей, а в данном случае и церковной: до Петра и после Петра. Особый Синодальный Период не схоластическая условность, а естественно сложившаяся, своеобразная по своей новизне эпоха в развитии Русской Церкви. И дело тут не в одной, и при том, канонически дефективной, новизне формы высшего управления русской церковью, а в новизне правового и культурного принципа, внесенного в русскую историю с Запада, глубоко изменившего и исказившего нормальную для Востока «симфонию» между церковью и государством. Таким образом… со смерти последнего 11-го патриарха Московской Руси, Адриана (†1700), мы вступаем в новый период, период Императорской России. Западнический, секулярный, антитеократический дух деспотического преобладания государства над церковью… В своем педагогически пространно резонирующем законодательстве Петр часто свидетельствует о своей сознательно принятой им идеологии государственного права. Последняя цель власти – пещись о благосостоянии общей пользы. Задача чисто утилитарная, земная. Ничего специфически религиозного. Старый теократический идеал просто забыт. В этой системе ему нет места.
В прежней теократии последней целью было приведение христианского народа в вечное царство Христово. Монарх с его утилитарными попечениями был слугой этого церковного идеала и направлял весь ход земных попечений в этом духе. Теперь произошла переоценка ценностей. На место последней и высшей цели встала утилитарная задача государственной власти. И монарх, ее носитель и исполнитель, потребовал себе тоталитарного подчинения решительно всех публичных функций, в том числе и религиозной. На данной территории монарху подчинено решительно все, в том числе все религии, все веры. Такова теория, таков тезис этой системы так наз. «территориализма». Такое государство, получившее в науке название «полицейского» исключает конкуренцию каких-либо других самодовлеющих институций общественных сил и личной инициативы»[24].
Во время царствования императрицы Елизаветы Петровны дела в отношении с Церковью дошли до того, что члены Священного Синода должны были принять присягу, в которой клялись верности императрице и признавали ее «крайним судиею» (т. е. высшим судьей) над Церковью. Возражавшего против подобного положения дел и требовавшего восстановления патриаршества митрополита Арсения (Мацеевича) в итоге, предали суду, лишили сана, расстригли из монахов, сослали в ссылку и в конце концов фактически замуровали в тюрьме (в конце жизни вход в его камеру был замурован, оставлено было только окошко для передачи пищи). И только на Поместном Соборе РПЦ 1918 года, митрополит был восстановлен в сане, а на Архиерейском Соборе РПЦ 2000 года канонизирован как священномученик, пострадавший за веру.
В 19-м веке государственное давление на Церковь еще более усиливается. В это время в умах правящей российской элиты созревает так называемая «теория официальной народности», происхождение которой традиционно связывается с именем николаевского министра народного просвещения графа С. С. Уварова: «Как известно, Уваров в своем всеподданнейшем докладе, посвященном десятилетию управления им Министерством народного просвещения (1833–1843), указывал на «спасительные начала», без которых Россия не может «благоденствовать, усиливаться, жить». Первым, главным началом, по мнению министра, было православие, неразрывно связанное с самодержавием и народностью. Названные начала провозглашались национальными, на них предлагалось укрепить, «якорь нашего спасения. «Без любви к вере предков, – замечал Уваров, – народ, как и честный человек, должен погибнуть. Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия»[25].
По сути дела данным заявлением декларировалась неразрывная связь Православной Церкви и императорской власти на основе идеи народности. Фактически же это означало, что отныне религиозная политика имперских властей должна будет направляться, прежде всего, на укрепление той политико-идеологической схемы, которая провозглашалась оптимальной для государства: «По словам историка А. Е. Преснякова, православие в эпоху Николая I – одна из опор власти, «вполне реальная система церковного властвования над духовной жизнью «паствы», притом церковность – орудие политической силы самодержавия, вполне покорное гражданской власти под управлением синодального обер-прокурора»[26].
С одной стороны подобное положение дел, как могло бы показаться при поверхностном взгляде, могло содействовать благу для Православной Церкви. И действительно во время царствования Николая I наблюдается некоторое увеличение количества православных приходов, монастырей, священнослужителей и монахов[27]. Однако, как это уже было отмечено выше, общее состояние православного верующего народа (не исключая и клир) оставляло желать лучшего.
Чего только стоит тот факт, что во время правления Николая I никто из архиереев того времени не мог управлять своей паствой без вмешательства светской власти. Более того, светскими властями явно не приветствовалась инициатива, исходящая со стороны духовенства и верующего народа, касающаяся серьезных вопросов внутрицерковной жизни, т. к. согласно идеологической установке того времени любая инициатива (впрочем, как и в прежние синодальные времена) должна была исходить только от самодержца: «Все в империи подчинялось лишь его распоряжениям, так как его взгляды на добро и зло, на то, что есть польза, а что вред не могли ни обсуждаться, ни критиковаться публично. Эти правила распространялись и на Православную Российскую Церковь, иерархи которой должны были всегда помнить о своей зависимости от светской власти. В эпоху Николая I эта зависимость демонстрировалась достаточно прямолинейно: епископы, как и чиновники, получали высочайшие выговоры за провинности; как и в прежние годы, постоянно перемещались с места на место; должны были оказать губернатору того города, в котором служили, «всяческое уважение», являясь перед светским чиновником по первому требованию»[28].
Все это не могло не сказаться самым отрицательным образом на отношениях между Церковью и государством, но ситуация достигла своего апогея в 1836 году, когда император внял коллективному обращению Святейшего Синода и назначил на место обер-прокурора флигель-адьютанта полковника графа А. Протасова. По иронии судьбы, члены Святейшего Синода, желая сместить неугодного им обер-прокурора С. Д. Нечаева, сами указали царю на кандидатуру графа А. Протасова, в чем, безусловно, просчитались: «Святейший Синод получил то, что хотел: обер-прокурором стал на долгие годы гвардейский офицер, названный современником «патриархом со шпорами». Облеченный полным доверием императора, имевший «громадные связи при Дворе» и «хитрый ум», блестящий полковник, в дальнейшем получивший генеральские эполеты, занял первое место в духовном управлении. «Светская власть окончательно завладела внешней стороной Церкви. В. Церковь соборных постановлений, догматическую, она, правда, не решалась вмешиваться; несмотря на то, внутренняя жизнь Церкви приутихла… Священники стали принимать характер чиновников в рясах»[29].
Кстати, необходимо отметить, что автор вышеприведенной цитаты не совсем точен в формулировках. Действительно, светская власть, как правило, не вмешивалась в догматические вопросы, рассматриваемые на Церковных Соборах. Однако, все же, ее влияние затрагивало и вероучительные моменты, в том числе и догматику. Как один из примеров подобного влияния можно привести настойчивые требования обер-прокурора А. Протасова касательно редактирования отдельных мест «Катехизиса» свт. Филарета (Дроздова): «Как известно, текст Катехизиса, изданного в 1823–1824 гг., дважды подвергался изменениям. В издании 1827–1828 гг., когда, впрочем, дело ограничилось заменой библейских и святоотеческих цитат на русском языке церковнославянскими, и 1839 г., когда были произведены более существенные изменения в тексте по настоянию обер-прокурора Протасова в сотрудничестве с митрополитом Серафимом (Глаголевским) и другими членами Св. Синода. Нужно сказать, что «исправление» Катехизиса в духе его большей латинизации и согласования с Исповеданиями Петра Могилы и Досифея не всегда было удачным»[30].
Таким образом, в силу сложившейся ситуации все вопросы, касающиеся духовного устроения и внутренней религиозной жизни российских подданных, стали решать исключительно административными методами. И хотя на словах Николай Первый всецело ратовал за ненасильственное обращение своих подданных в православную веру, как и вообще за ненасильственную борьбу с безверием в его стране, на деле же было известно; император – сторонник административных мер воздействия[31]. Увы, но стремление светских властей к унификации, к сведению религиозной жизни всех православных империи под единый знаменатель в николаевскую эпоху не привело к торжеству православного единства. Скорее – наоборот, это только усилило антицерковные настроения в российском обществе того времени: «Дело заключалось в том, что император Николай I и обер-прокуратура Святейшего Синода считали возможным с помощью административных методов решить основные церковные (как и все остальные) вопросы России, в то время как критики режима полагали начать с раскрепощения самой Церкви. Среди этих критиков были люди вполне благонамеренные, честные и православные по духу. Для многих славянофилов, равно как и для западников, православие не совпадало с «ведомством православного исповедания» и, соответственно, не сопрягалось с казенным пониманием самодержавия»[32].
И все же было бы ошибкой считать, что подобное положение дел во взаимоотношениях Церкви и светской власти сложилось в силу чьих-то корыстных побуждений или намеренной провокации по отношению к христианской вере. И. Николай I, и прочии наши государи, как и большинство имперских чиновников 18-го и 19-го веков, были людьми верующими и вполне православными.
Проблема заключалась не в том, что они намеренно или чисто подсознательно хотели поставить Церковь в зависимое положение от государственной власти. Суть проблемы состояла в том, что в сознании правящих кругов того времени произошла некая подмена ценностей, а именно: ценности имперские, национальные были для многих представителей высшей российской элиты выше ценностей евангельских. Попросту говоря, «патриотическое чувство» (в котором, к слову сказать, нет ничего плохого) по отношению к своему государству было поставлено выше жизни по заповедям Евангелия (хотя их, естественно, никто не отрицал). «Теория официальной народности» стала доминирующей идеей в умах правящих кругов Российской империи, вытеснив тем самым на второй план христианские ценности. На практике это привело чуть ли не к языческому культу поклонения государству и русскому народу как таковому, а императору как некоему богу во плоти: «Николай I смотрел на человеческую жизнь (в том числе и на свою собственную) только как на службу. Не испытывая и тени сомнения в том, что его власть законна, он требовал от подданных безусловной покорности, в свою очередь проявляя покорность по отношению к идеалу избранника Божьей власти. «Его самодержавие милостью Божией было для него догматом и предметом поклонения, – вспоминала фрейлина императрицы Александры Федоровны А.Ф. Тютчева, – и он с глубоким убеждением и верой совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии»…Николай I только потому был «кумиром и жрецом» самодержавия, что воспринимал его исключительно как религиозный феномен»[33].
В пылу патриотического подъема никто так и не заметил того глубокого, внутреннего крена, который содержала в себе официальная имперская идеология. Идеология, которая не смогла учесть онтологическую несводимость друг к другу Царства Небесного и падшей земной действительности. Идеология, сакрализировавшая и оправдывавшая последнюю, что совершенно противно Евангелию Христову. Делая анализ имперской идеологии византийского общества (которая, к слову, очень сильно напоминала «теорию официальной народности»), современный православный богослов о. Иоанн (Мейендорф) писал: «В наше время византийская идея гармонии между Церковью и обществом стала неприменимой как практический образец общественного строя. Более того, в самом византийском – по существу утопическом – идеале крылся духовный изъян: византийцы, как и весь средневековый мир, фактически считали гармонию уже осуществленной… Говоря богословски, византийская идеология погрешала в области своих же собственных эсхатологических категорий, отождествляя земное царство с Царством Божиим и часто забывая, что всякая государственная структура принадлежит к миру падшему, не подлежащему абсолютизации и обожествлению…».
Странно, но имперские власти России так и не смогли понять этой простой христианской истины[34]. Они упустили из виду тот факт, что истинной объединяющей идеей могла быть только такая идея, которая изымает человека из падшей действительности этого мира (частью которого, между прочим, является и империя, и государство, и самодержавие). Идея, которая направлена на решение главнейшей проблемы человеческой жизни – проблемы преодоления смерти и страданий. И именно этой идее подчинено все Бытие Церкви Христовой. Именно поэтому: «Ставить жизнь Церкви в зависимость от имперского строя – значит совершенно не понимать смысла Церкви, того, что она имеет совсем другую природу, чем какие бы то ни было формы государственного устройства»[35].
В сложившейся ситуации доминирования «теории официальной народности» православие часто воспринималось людьми как некий инструмент для патриотического воспитания населения, в результате чего у большинства сложилось вполне устойчивое мнение о том, что Православная Церковь есть по преимуществу националистическое явление. Фактически же это означало формирование в сознании людей того времени устойчивого стереотипа о Церкви без Христа и жизни по евангельским заповедям.
Видя в Церкви лишь некую сдерживающую идеологическую узду, имперская власть совершенно не заботилась о том, чтобы Церковь выполняла свою главную задачу – проповедь о Христе и христианском образе жизни. В результате, в жизни большей части российского общества произошла страшная метаморфоза, а именно: в сознании многих людей Православие перестало ассоциироваться собственно с христианством и Христом.
К сожалению, эта болезнь не прошла и мимо самой Церкви, как тля она стала проникать в церковную среду, наполняя ее ложным христианству духом формализма и законничества, в результате чего Церковь постепенно начинает превращаться в «государственное учреждение по делам религий», а христианская жизнь – в систему запретов и долженствований, систему основанную на подмене подлинно-христианских отношений формально-казарменными установками, на страхе принять историческую реальность, на боязнь думать и т. д.
Естественно, все это не имеет никакого отношения к Православию, к святоотеческому учению о спасении, к подлинной церковной традиции, ибо цель Церкви не империя, не удовлетворение духовных или материальных запросов населения, а Царство Божие, которое: «внутрь нас есть» (Лк. 17:21).
Непонимание этой основополагающей истины в итоге привело к тому, что для многих людей (как в прошлом, так и в настоящем) церковная жизнь стала восприниматься с чисто внешней, формальной стороны, восприниматься как некая «белая магия православного обряда», суть которой состояла в том, чтобы ставить свечки, подавать записки, ездить в паломничества (в 18-м и 19-м веке ходить по святым местам), служить водосвятные молебны и т. д., попросту говоря – совершать определенные внешние действия в надежде на то, что они сами по себе, автоматически, окажут нужное магическое действие. В том числе, и многим пастырям Церкви было гораздо легче выступать в роли жрецов, т. е. – служить молебны или требы и, получив плату, на этом закончить созидание Церкви. Все это фактически означало профанацию самой сути христианской веры, когда христианство представляло из себя внешнее без внутреннего, а церковная жизнь стала жизнью без нравственного и духовного труда.
Если прибавить сюда еще и чисто административное давление, осуществлявшееся со стороны светских властей на Церковь, то становится ясно, почему в истории России стала возможной глобальная катастрофа начала 20-го века. «…не потому ли так сильно ударила революция по Церкви, – заметил святейший Патриарх Кирилл в одном из своих публичных выступлений, – что в сознании многих людей Церковь отождествлялась с властью, воспринималась как ее инструмент?»[36]
После смерти Николая I в жизни русского общества (как в духовной, так и в материальной сфере) начали происходить некоторые перемены. Во время царствования нового императора Александра II (1855–1881) старая идеология управления духовным ведомством подверглась суровой критике. Россия начинала движение по пути социальных, экономических и политических реформ. И все же они также неоднозначно сказались на религиозной жизни русского народа, а может быть, даже и усугубили ситуацию[37].
Так в 1864 году (т. е. через четыре года после отмены крепостного права) свт. Игнатий (Брянчанинов) сделал такую заметку по поводу состояния народа:
«Мой сборщик, умный монах, лет 50-ти, возвратился с Кавказа и с приволжских губерний. На Кавказе принят был очень радушно, но насобирал мало по причине оскудения страны от неурожаев, а паче по причине общего и быстрого охлаждения народа к Церкви. Ему говорили мои знакомые: «Только три года Владыко от нас, а ему не узнать бы теперь народа, так он переменился»[38].
В 1866 году он делает еще более резкую оценку религиозного состояния простого народа: «Религия вообще в народе падает. Нигилизм проникает в мещанское общество, откуда недалеко и до крестьян. Во множестве крестьян явилось решительное равнодушие к Церкви, явилось страшное нравственное расстройство»[39].
В новых условиях современники стали подводить итоги прошедшему царствованию, в том числе и критически оценивая состояние русского духовенства: «Об этом писали как светские лица, так и клирики, иногда замечая, что в течение тридцати лет (а фактически гораздо большего периода, – прим. автора) в отношении веры русский народ был предоставлен самому себе, не получая никакого религиозного воспитания и даже не имея понятия «ни об чем духовном»[40].
21
«В психике Петра отрицательный момент оттолкновения от старорусского московского благочестия был закреплен ужасными впечатлениями детства. Стрелецкий бунт 1682 г., облеченный в форму наступательного, дерзкого крестового похода на Кремль старообрядческих вождей, в то время как на глазах у Петра были зверски растерзаны его два родных дяди, Алексей и Иван Нарышкины, оставил в Петре полуребенке, вместе с болезненным конвульсивным тиком лица, на всю его жизнь и глубокое духовное отвращение к звериному лику дикого, темного, невежественного и ничуть не христианского, древле-московского фанатизма. Это в совести Петра оправдывало его дерзновенное наступление на такой темный лик под знаменем просвещенного наукой и опытом западного христианского гуманизма и идеализма. Одна крайность оправдывала другую. Раздражавший Петра темный лик доморощенного московского благочестия преследовал его неотвязно в самом интимном кругу семейного очага. Первая жена Петра, Евдокия Федоровна Лопухина, на которой женили молодого Петра помимо его собственной инициативы, была центром вьющегося клубка темного суеверного святошества в виде странников, юродивых, кликуш. Это было прямым вызовом Петру бежать из дома, как из жалящего осиного гнезда. Куда? Путь сам собою был ясен: в немецкую слободу. Там Петр наслаждался опьянявшим его и чарующим воздухом западного «просвещения.» Там, помимо романических привязанностей, создавались и дружеские деловые привязанности. Как, например, к швейцарцу Францу Лефорту.
Вообще все интеллигенты немецкой слободы стали для Петра профессорами этого для него «западного университета.» Тут Петр встретил и коллегиальную форму церковно-приходского самоуправления протестантских общин немецкой слободы и узнал от протестантов и об их общих конституциях церкви в разных странах Западной Европы… Естественно предполагать, что уже с этого момента Петр замыслил применить протестантский примат государственной власти у себя дома. Но канонической формы его ни с кем еще не решался обсудить. Прошло целое десятилетие, пока он присмотрел себе компетентного единомышленника в лице киевлянина Феофана Прокоповича… Протестантская система примата государства не только гармонировала с усвоенным Петром государственно-правовым мировоззрением в духе естественного права, но и прямо требовалась последним…» (А. В. Карташев. «Очерки по истории Русской Церкви». Т.2. http://www.golubinski.ru/ecclesia/kartashev/ocherk2.htm)
22
Православная Энциклопедия. Том РПЦ. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». Москва, 2000 г. С. 109–110.
23
Выступление Патриарха Кирилла в прямом эфире телеканала «Интер», от 28 июля. Православный еженедельник «Седмица», № 29–30 за 2009 г. С.21.
24
А. В. Карташев. «Очерки по истории Русской Церкви». Т.2.:
http://www.golubinski.ru/ecclesia/kartashev/ocherk2.htm
25
С. Л. Фирсов. «Религиозная политика и народное благочестие в России (1825–1861)». Журнал «Церков и время», № 1 (30) 2005 г. С.201.
26
Там же.
27
«В 1825 году в России насчитывалось около 25 тыс. храмов и 449 соборов, а также 785 молитвенных домов и часовен. При них состояло до 111 тыс. лиц белого духовенства (протоиереев, священников, диаконов и причетников, численность которых, кстати, превышала 63 тыс. человек). В 1860 году церквей было уже 37675, а часовен и молитвенных домов – 12486. Разумеется, возросла и численность белого духовенства, почти достигнув 114 тыс. человек. Увеличилось и число монастырей: за годы царствования Николая I было вновь открыто 43 обители». (С. Л. Фирсов. «Религиозная политика и народное благочестие в России (1825–1861)». Журнал «Церковь и время», № 1 (30) 2005 г. С.215.)
28
С. Л. Фирсов. «Религиозная политика и народное благочестие в России (1825–1861)». Журнал «Церковь и время», № 1 (30) 2005 г. С. 201–206.
29
Там же.
30
Архиепископ Василий (Кривошеин). Вероучительные документы Православной Церкви. V. Оценка «исповеданий веры». Катехизис Митрополита Филарета (Дроздова): http://www.holytrinitymission.org/books/russian/simvolicheskie_teksty.htm#_Toc31367076
31
«Наиболее выпукло это проявилось в отношении к старообрядцам. Старообрядческая традиция и поныне воспринимает Николая I, как «миссионера на царском троне», якобы занимавшимся совращением староверов в единоверие больше, чем государственными делами. Совращение характеризуется как принудительное, насильственное, разорительное и губительное для всей страны. Действительно, 10 мая 1827 года закон запретил старообрядческим священникам переезжать с места на место (для совершения духовных треб). 8 ноября 1827 года появилось новое высочайшее определение: новых попов на Рогожское кладбище в Москве «отнюдь не принимать». В январе 1836 года распоряжение ко всем старообрядческим обществам России было повторено. Через год, в январе 1837 года, были разгромлены Иргизские старообрядческие монастыри. При Николае I старообрядцам запретили записываться в купцы, подвергли их рекрутской очереди и телесным наказаниям. Это касалось всех старообрядцев без исключения. «Целые старообрядческие селения были отданы под «полицейский надзор». (С. Л. Фирсов. «Религиозная политика и народное благочестие в России (1825–1861)». Журнал «Церковь и время», № 1 (30) 2005 г. С. 213–214.)
32
С. Л. Фирсов. «Религиозная политика и народное благочестие в России (1825–1861)». Журнал «Церковь и время», № 1 (30) 2005 г. С.218.
33
С. Л. Фирсов. «Религиозная политика и народное благочестие в России (1825–1861)». Журнал «Церковь и время», № 1 (30) 2005 г. С.202.
34
Здесь мы подходим к центральному пункту имперской идеологии: «Заявление о том, что империя «священна», что она «так же как и Церковь, своими таинственными… способами призвана вести людей к Царству Небесному», решительно выводит нас из рамок христианского мировоззрения. Это совершенно языческая идеология… С христианской точки зрения такая постановка вопроса совершенно неприемлема, ибо тем самым мы вводим некое «второе божество» – которое и делает империю «по-своему» (то есть иным образом) священной». (Игум. Петр (Мещеринов), «О ценностях имперских, либеральных и других». kiev-orthodox.org)
35
Игумен Петр (Мещеринов). «О ценностях имперских, либеральных и других». kiev-orthodox.org
36
Выступление Патриарха Кирилла в прямом эфире телеканала «Интер», от 28 июля. Православный еженедельник «Седмица», № 29–30 за 2009 г. С.21.
37
Речь идет о неоднозначной ситуации, возникшей с отменой крепостного права. В среде современных исследователей истории России существует вполне обоснованное мнение о том, что такая необходимая, но неудачно проведенная реформа по отмене крепостного права явилась одним из главных факторов обнищания крестьян и, как следствие, наводнения городов дешевой рабочей силой, что, в свою очередь, способствовало быстрому росту рабочего класса, который и стал, в скором времени, основным отрядом будущей революции. Впрочем, о неудачах крестьянской реформы начали говорить уже в конце 19-го – начале 20-го века: «Недостаточность наделов и непомерно высокие повинности – вот два основных факта, из-за которых крестьянская реформа 1861 г. в экономическом отношении не оправдала надежд, на нее возлагавшихся. При наделении крестьян землей общераспространенным явлением было предоставление крестьянам худших по качеству земель, нарезывание их в разных местах и длинными, узкими полосами, иногда без всякого прогона для скота. При недостаточности наделов крестьяне вынуждены прибегать к аренде владельческих земель и к расширению пашни на счет выгонов и лугов, влекущему за собой сокращение скотоводства и уменьшение удобрения. Нуждаясь в выгонах, крестьяне арендуют их у владельцев, причем, как и вообще при крестьянской аренде, преобладает система отработков, лишающая крестьян возможности надлежащим образом возделывать свою надельную землю и затрудняющая улучшение как помещичьего, так и крестьянского хозяйства. Невыгодно отразился на крестьянах и переход от натурального хозяйства к денежному, который во многих местностях, особенно в центральных, с падением крепостного права, проведением железных дорог, увеличением денежных платежей совершился довольно быстро. Потребности деревни теперь не удовлетворяются уже почти всецело продуктами собственного хозяйства… Тяжелое экономическое положение, обусловленное совокупностью всех этих причин, выражается в быстром увеличении числа крестьян безлошадных, бесскотных и даже бездомных, бросивших или сдающих свои наделы. (Энциклопедический словарь Брокгауза-Эфрона. Статья «Крестьяне». Электронная версия. ООО «ИДДК», 2002 г.)
38
Свт. Игнатий (Брянчанинов). «Собрание сочинений». Том 7. «Избранные Письма». Переиздание Спасо-Преображенского Мгарского монастыря. Полтавская епархия, 2001. С. 73.
39
Свт. Игнатий (Брянчанинов). «Собрание сочинений». Том 7. «Избранные Письма». Переиздание Спасо-Преображенского Мгарского монастыря. Полтавская епархия, 2001. С. 77.
40
С. Л. Фирсов. «Религиозная политика и народное благочестие в России (1825–1861)». Журнал «Церковь и время», № 1 (30) 2005 г. С.225.