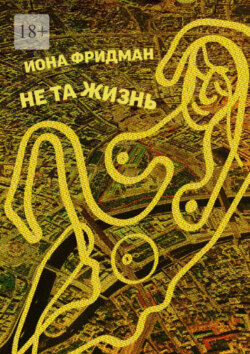Читать книгу Не та жизнь - Иона Фридман - Страница 11
НЕ ТА ЖИЗНЬ
9. В сторону физики
ОглавлениеДве статьи, вошедшие в диссертацию, были посланы в Доклады АН СССР. Пришла рецензия. В то время в Москве всё было по-домашнему, и я сам зашел за рецензией в редакцию, располагавшуюся в Подсосенском переулке, по случайному совпадению, рядом с домом, где жила моя хорошая знакомая, Таня – много больше о ней в следующей главе. Я случайно подглядел фамилию рецензента, весьма известную, хотя с её носителем я никогда раньше не сталкивался. Рецензент был Левич – хотя на самом деле рецензию, скорей всего, написал один из его сотрудников. У меня возникла дурацкая идея взять его в оппоненты, но как к нему подойти? Танин папа В.И. был тоже профессор-физик, и я поделился с ней этой идеей, а она – с папой, почему бы нет? Как говорилось в одной из популярных поэм детского писателя Маршака: «а то, чего требует дочка, должно быть исполнено, точка» – даже если дочка не требует, а так, дает идею. Такие, как я, были мелкой разменной монетой в академических взаимоотношениях. Левич, даже, по-видимому, не поинтересовавшись темой диссертации, далекой от его основных интересов, сказал: хорошо, а ты (или Вы) будь (те) оппонентом у такого-то (в будущем директора института, где работал Левич, но тот будет к тому времени оттуда далеко).
Вторым моим оппонентом был М. Г. С., один из ведущих специалистов по теме диссертации и вскоре членкор, работавший в Институте Катализа в Новосибирске, точней, в тамошнем Академгородке. Так, на моей защите, впервые встретились два заклятых врага. Политически М. Г. С. был из вражеского, т. е. правящего, лагеря. В свое время он курировал химическую технологию в ЦК КПСС, и, хотя его деятельность там датируется в Википедии уже Хрущёвскими временами, говорили, что он приложил руку и к Сталинским репрессиям 50-х, решайте сами, Википедии ли верить или слухам. Обе рецензии были вполне положительными, но на защите М. Г. С., против обычая, стал говорить обратное. Честно говоря, сейчас я сказал бы, что, по существу, он был прав, но тогда это воспринималось как антисемитский подвох. Формальных последствий эта речь не имела, в протоколы попала не она, а положительный отзыв, было несколько отрицательных голосов, но диссертацию утвердили в ВАКе без проблем. В тот период диссертации следовало защищать не по месту работы, моя защита была в ведущем физико-химическом институте, и это была до того беспрецедентная теоретическая диссертация в области химической технологии.
Были, однако, серьезные последствия другого рода. Левич рвался в академики, и он достоин был подняться на эту высшую ступень научной иерархии. Его фундаментальная книга, сокращу заголовок как ФХГ, уже была переведена на английский и была высоко оценена на Западе, она и поныне считается классической. Химическим отделением АН СССР в 50-х заправляли два больших ученых: Фрумкин продвигал Левича, а другой, Нобелевский лауреат – своего зятя, который тоже был замечательный ученый и тоже еврей, так что дело было не в давлении сверху. Вместо того, чтобы договориться, сегодня ты моего, а в следующий раз я твоего, наконец, кинуть монету, они так и спорили, голоса делились, проходил в академики кто-то третий, пока они не потеряли большинство. Тут Левич решил, что он может пройти в академики не по химии, а по химической технологии, может быть, даже моя защита его навела на эту мысль.
Основания на то были. ФХГ, его основной труд, содержал фундаментальную теорию как раз химико-технологических процессов, но понимали это только физики, не инженеры-химики; к тому же в том отделении АН доминировали политически враждебные нам люди. Эта тенденция, между прочим, сохранилась до сих пор. Приземлившись в Израиле в факультет химической технологии, я наивно пытался направить обучение в более фундаментальную сторону, даже представил декану полную программу, но она была далека от интересов и профессоров, и студентов. Студенты предпочитали легкие темы дипломных и магистерских работ; те, кто такие темы, хоть и негодные для публикаций, предлагали, были популярней всех. Один ведущий профессор, бывший в то время вице-президентом по исследовательской работе, пытался читать ФХГ, даже просил меня помочь, так ничего и не понял, только стал моим врагом. Когда мы с более интеллигентными профессорами, уже моего поколения, привели на преподавательскую должность моего «русского» пост-дока, старики его затравили, подбивая студентов, и тот укатил в университет получше в Америку. Я в конце концов оставил попытки что-то изменить, почти не преподавал, и занимался своими делами. Уходить так далеко в будущее, может быть, здесь неуместно, но важно отметить, что то, что мы воспринимали как противостояние между теми, кто думает, как мы и партийными бюрократами, универсально: это противостояние между думающими и держащими рычаги влияния (а думающие, думают о той ерунде, над которой работают, а не о действительно важных социальных взаимодействиях и интригах).
Химическая технология привлекала и по другой причине. Хрущев все-таки был творческой натурой, не то, что его преемник, при котором настал период гниения. Как говорили про обоих, «раньше нам освещала путь к светлому будущему лысина Никиты Сергеевича, а теперь мы шагаем к коммунизму на бровях Леонида Ильича». «На бровях» бывает пьяный, а под лысиной всё время возникали новые идеи. Опять-таки цитируя фольклор, он «разъединил райкомы и соединил санузлы, но не успел соединить пол с потолком» (потолки в хрущобах были 230 см). Он прославился на весь мир, стуча ботинком по столу в ООН. Как над ним смеялись! Фильм «Наш Никита Сергеевич» через два дня сняли с экрана, потому что весь зал хохотал, жаль, я не собрался его посмотреть. Говорили: «Кто играл Хрущева? Аркадий Райкин» (знаменитый комик). Вслед за кукурузой, Хрущев увлекся и химией. В то же время начали продвигать кибернетику, осужденную при Сталине как империалистический подвох. Помножьте одно на другое, и получатся компьютерные лаборатории, какие стали, следуя моде, открывать в химико-технологических исследовательских институтах.
Цель была дерзновенной: рассчитывать реакторы и прочую аппаратуру ab initio, с нуля – это с тогдашними компьютерами. Лишь по-настоящему проницательный физик может хотя бы частично распутать необходимую цепь приближений, даже при теперешней технике. Было мало людей, имевших хотя бы отдаленную квалификацию, чтобы это понять, а проницательные физики занимаются более глубокими теориями. А тогда даже мне, недопеченному кандидату наук, предложили заведовать лабораторией моделирования в закрытом учреждении, несколько связанном с производством химического оружия. Я отказался, у меня было уже более привлекательное предложение, хоть и на вдвое меньшую зарплату. Наверно, меня бы всё равно бы не взяли, внимательней углубившись в мою подноготную: кроме не той, как надо, этнической принадлежности, я общался с не теми людьми. Эта работа досталась другому молодому кандидату, у него была более подходящими анкета: его по паспорту не надо было бить, только по морде. Он стал впоследствии моим другом, наша последняя статья, с выпускником кафедры Левича в МГУ (ныне профессором в Rutgers с индексом цитирования лучше моего), которого я послал к нему в аспирантуру, вышла уже после моего отъезда.
Привлекательное предложение исходило от Левича. Он взял меня младшим научным сотрудником в свой теоротдел. Довольно быстро я поднялся в старшие, и еще преподавал на кафедре, основанной Левичем на мехмате МГУ. Мое изгнание кончилось, я вернулся в родной ближний юго-запад Москвы. А для Левича это было первым ходом обходного академического маневра. Он собрал теоротдел, человек двадцать, и велел всем бросить всё остальное и два года (т. е. до следующих выборов в АН) заниматься химической технологией. Узнаёте коммунистические методы, хоть Левич отнюдь не коммунист? Так Сталин форсировал индустриализацию в 30-х, Мао приказывал крестьянам строить доменные печи возле своих хижин, и Хрущев всех бросал осваивать целинные земли и сеять кукурузу.
Некоторое время я чуть ли не каждый день давал в теоротделе семинары о реакторах и прочих химико-технологических процессах, вероятно, скорее учась по ходу дела, чем просвещая слушателей. Левич был умница, я считаю его моим учителем. Его семинары были, в традиции Ландау, подобны игре в регби. Всё происходило на игровом поле. Готовить что-то заранее, например, выписывать формулы на вращающемся линолеуме «классной доски», было запрещено (сравните с нынешними презентациями на PowerPoint). Спорт заключался в том, что выступающего, как игрока, владеющего мячом, атаковали со всех сторон, и семинар продолжался до тех пор, пока аудитория не была удовлетворена или истощена, а иногда игра возобновлялась на следующем семинаре после четырехчасового хаоса. Никто не обижался, как игрок в регби не обидится за встряску в пылу игры. Некоторые, переехав на цивилизованный Запад, пострадали, не отказавшись от таких привычек. Я был знаком с талантливым, но язвительным физиком моих лет, покончившим с собой вслед за тем, как его выставили после испытательного срока и в Израиле, и в США.
Я все-таки умел в молодости учиться на ходу. Если бы я пошел на физфак и получил там регулярное образование, может быть, из меня вышел бы такой физик, каким я должен был бы стать. Позже Левич «пожаловался», что допустил ошибку: он хотел нанять инженера-химика, а нанял физика. Это был комплимент, но его главная ошибка была в другом. Сильные люди в области, куда он вторгся, такие, как М. Г. С. и поддерживавшие того академики, вторжения не потерпели. Не потерпели и необычную и для таких сборищ, и для тех времен, и вообще необычную открытую перепалку между Левичем и М. Г. С., какая была, в частности, на знаменательных конференциях в Академгородке в 65-м и 66-м. Левича не выбрали в академики. Отчаявшись бороться с ветряными мельницами и побуждаемый сыном Женей, он подал на отъезд, о чем я уже рассказал.
Тем временем, я, как и раньше, торопился. Левич придал мне двух аспирантов, оба всего на четыре года младше меня, и оба ныне мертвы. Левич был официальным руководителем, а на самом деле руководителем был я один, Левич не подписывал наших статей, в отличие от советских академиков, набиравших статьи тысячами. Оба аспиранта были хороши в работе, а один из них, Юрочка, к тому же хорош собой, и это он впоследствии женится на моей разведенной жене. Как раз с ним мы опубликовали в 68-м статью, которая станет существенной для моей будущей деятельности, но идея была моя. И идея, и её осуществление были просты: могла возникнуть ситуация, когда, без всяких внешних воздействий и внутренних неоднородностей, одна сторона плиты становилась горячей, а другая холодной. Подобное «спонтанное нарушение симметрии», которое станет сосредоточием моих мыслей, играет, в различных его проявлениях, громадную роль на всех просторах физики, от элементарных частиц через земные явления до строения вселенной, но я этого тогда не знал.
Еще до того, как развернулась безуспешная атака Левича, за океаном и по ту сторону железного занавеса эпицентром подобного натиска стал университет Миннесоты, где на факультете химической технологии сошлись два выдающихся прикладных математика, Н.А. и Р.А., и замечательный физико-химик, которого все звали «Skip», написавший восторженное предисловие к переводу ФХГ. Однажды упало с ясного неба письмо от Д.Л., бывшего ученика Н.А., и моего будущего друга, который вскоре станет, будучи даже на два года младше меня, главой факультета химической технологии в Хьюстоне. Он откопал мою статью о нарушение симметрии – идея была представлена на семинаре чешским гостем как его собственная. Ответить было целым делом, так как безобидное письмо на пути за границу должно было пройти несколько уровней цензуры. Когда, с потеплением и разрядкой, из-за ржавеющего железного занавеса приехали в Москву Р. А. и, Д.Л., им сказали, что я уехал в отпуск, в то время как я безуспешно пытался с ними связаться. Но мы еще встретимся. Я перевел на русский книгу Р.А. о теории химических реакторов, о чём он с удивлением узнает от меня при встрече – таково было отношение к авторским правам в СССР.
Сам я безуспешно пытался выбраться за границу – нет, не с целью дезертировать, а на научную конференцию. Обычная стратегия была такова: запрос долго рассматривали по инстанциям, даже включая унизительный медицинский осмотр, пока срок конференции, имевшейся в виду, не приходил, и вопрос не отпадал сам собой. Позже, уже в 70-х, меня пригласили приехать в Прагу (в социалистическую страну, из которой нельзя удрать) за их счет в любое удобное для меня время – и тут с разрешением тянули, пока я не уехал насовсем.
В 69-м я защитил докторскую, к завалу которой в ВАКе М. Г. С. наверняка приложил руку. Но самое интересное, это то, что, когда я уже подавал на отъезд, мне передали, что он предлагает быть моим оппонентом на новой защите. Уж не знаю, как это было согласовано с теми, кто, наоборот, желал, чтоб я убрался восвояси. Посмотрите на фото, как мы дружески беседуем. Происходит это в 2002-м, в том же институте, где я защищал кандидатскую, там тогда работали и М. Г. С., и мой лучший друг, из нашей же группы в МИТХТ. Я приехал на курс «Центра непрерывного образования в области химико-технических наук для передовых технологий», им организованный с моим участием, который вскоре прикрылся. Он нас и сфотографировал, и потом сказал: «Моцарт и Сальери сорок лет спустя».
В физико-химическом институте, с другом (слева) и врагом (справа)
Он, самый давний друг, с кем, начиная с 90-х, я держал постоянную связь, угодил после выпуска в «ящик», где разрабатывали запрещенное химическое оружие. Он выбрался оттуда в физико-химический институт, но не мог и думать об отъезде. Он был мастер спорта по туризму, в СССР туризмом называлось не то, что сейчас, надо было, по крайне мере, хотя бы спать в палатке, а быть мастером спорта по туризму значило идти не раз с 30-килограммовым рюкзаком в места, где можно было за месяц не встретить ни живой души. Он был, как и мой отец, настоящим думающим и умелым инженером, и он преуспел в практических инициативах под конец перестройки. После развала СССР таких, как он, вытеснили более молодые и менее щепетильные. В 10-е годы мы регулярно связывались по скайпу. Четыре года назад я позвонил ему, чтобы поздравить с восьмидесятилетием, но ответа не было, и больше я от него не слышал, что могло означать только одно.
Мое поколение, кроме тех, кто, как я, вовремя уехал, было самым неудачливым. Наши родители еще походили на great generation Америки. Они были слишком молоды, чтобы пострадать от террора 30-х годов, они прошли войну, они, в большинстве, еще были верными советскими людьми, не зная ничего лучшего. Поколение, родившееся после войны, не было тем счастливейшим поколением, на пике благосостояния, как бэби-бумеры на Западе, но они тоже вошли в сексуальную революцию на пике молодости, и были в зрелых летах, когда СССР развалился. Мои же сверстники были в этот критический момент уже пожилыми, нам было за тридцать в раскованные 70-е и у тех, кто остались в Союзе, годы зрелости совпали с годами гниения страны.