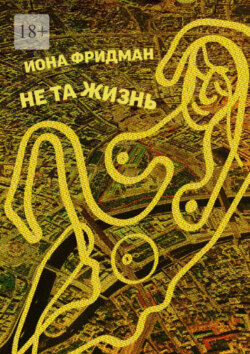Читать книгу Не та жизнь - Иона Фридман - Страница 8
НЕ ТА ЖИЗНЬ
6. Маятник любви
ОглавлениеНо вернемся в 54-й год. Мы с К. сидели рядом и на других занятиях. Всё было почти как в школе. Ассистенты вместо учителей, посещение семинаров обязательно. С общих лекций можно было и исчезнуть, хотя формально староста группы (сын надзирателя из Гулага, но всё же не такой неукоснительный, как его папа) должен был отмечать присутствие. Я на них ходил всё меньше и меньше, только не пропускал лекций по неорганической химии, где профессор устраивал изумительные фейерверки. Мой любимый предмет был – удивитесь! – история КПСС. Проходили опус Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Там он полемизировал с Российскими последователями Эрнста Маха, тем способствовав популярности последнего в народе. Было даже такое двусмысленное выражение: «дала Маху». Ленин, в отличие от его наследников, не был невеждой, например, в его труде была такая фраза: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом». Правда, возможно, он взял это не из физической литературы (электрон все же так и остался элементарной частицей), а из современного ему поэта-символиста Брюсова, который писал: «Быть может, электроны – миры, подобные Земле».
Я Ленина не читал, а готовился к занятиям по книге Эйнштейна и Инфельда «Эволюция физики». Преподавателю, симпатичному армянину, мои отчеты очень нравились. Он дал зачет без экзамена не только мне, но и К., которая сидела рядом и молчала. Как быстро менялись времена! Прошло лишь полтора года со смерти Сталина. Может быть, уже взяли бы еврея с золотой медалью на физмат, а я это прошляпил. У нас лекции по физике читал плюгавый молодой доцент. Под конец нашего первого курса умер Эйнштейн. Я встал на лекции и предложил почтить его память. Доцент отказался. Перемена времен была разношерстной.
Мы встречались – тайно! в темноте! – в саду глазной больницы в переулке у Тверской. Я не чувствовал ее тела, на ней было толстое темно-зеленое пальто, но целовались так, что пухли губы. Когда она была менее расположена, мы встречались на станции метро «Аэропорт». Тогда там еще не было писательского дома, и это была вроде бы дальняя даль, где нас никто бы не увидел. И она всегда туда опаздывала.
Потом случилось что-то страшное. Я дал ей пощечину! При всех! Я спятил! Я даже не помню, что было тому причиной. Конечно, я едва коснулся её щеки, но это была определенно намеренная пощечина. Поднялся переполох. Было собрание группы. Меня вполне могли исключить из комсомола и из института. Но они поняли мое состояние, меня пожалели. Конечно, К. со мной больше не встречалась и не разговаривала, хоть мы и были в одной группе и по-прежнему сидели в одном классе, только в разных концах, и от этого было только тяжелее. К третьему курсу она меня простила, наши отношения теплели по нечетным годам. Но они переменились, и они теплели и холодели не только от года к году, но и от недели к неделе. Через сорок лет я скажу ей: «Ты меня мучила». Она удивится.
Слева: К. в 18 лет. Справа: Нам уже под 60, птица – наш ребенок
На третьем курсе завкафедрой физической химии академик Сыркин анонсировал новинку: кружок физической химии для желающих. Я, конечно, туда ринулся и потянул К., тем самым определив всю её научную карьеру. Это пробило дыру и в моем невежестве, впервые я действительно толком чему-то учился. Сыркин не давал нам уроков. Наоборот, мы должны были читать статьи или главы из книг по квантовой механике и статистической физике и излагать их на семинарах. В свое время я попробовал такой подход в курсе для аспирантов, и это имело некоторый успех. Сыркин был лет за пять до того главным козлом отпущения в попытке преданных коммунизму химиков повторить в химии то, что сделал в биологии Лысенко. Они метили высоко, но им пришлось ограничиться двумя космополитами, Сыркиным и его сотрудницей М.Д., которые распространяли идеалистическую теорию резонанса агента американского империализма Паулинга, в недалеком будущем лауреата Ленинской Премии Мира Лайнуса Полинга. Даже этих предателей Родины не послали в Гулаг, но Сыркин потерял лабораторию в академическом институте и кафедру в МГУ, и его приютил Мышко́, либеральный ректор МИТХТ, благодаря которому наш институт был полон евреев, и среди студентов, и среди преподавателей. В начале 70-х ко мне в руки попал толстый том протоколов этой «дискуссии», и я напечатал о ней статью в «Знание – Сила». Главная редакторша потом удивилась: «Как я это пропустила?» Парень, которого я встретил уже в Израиле, потомок белых, удравших через Харбин, перевел мою статью Полингу по его просьбе.
Да, но ведь я здесь не об этом, а о любви. Мы встречались теперь в её квартире в Петроверигском переулке, тоже коммунальной, но у них были две больших комнаты, стояло пианино, на котором она играла. Она спала в дальней комнате зимой с открытым настежь окном – об этом я, конечно, знал только с её слов. Но я помню, как я шел от неё пешком в Хамовники, летом, в три утра, солнце уже всходило, и солнце было во мне. Наверно, её родители были тогда на даче. Я помню, как-то раз, наверно, тем же летом, мы целовались жарким днем, она была в одном купальнике, моя физиология не выдержала, как бывает у молодых во сне. Мы приезжали иногда на их дачу в Абрамцево. Однажды мы оказались там одни. Она постелила мне в мезонине – ну, постелила не то слово, так, какие-то одеяла на полу, а сама взобралась еще выше, на чердак. Но потом она спустилась в одной ночной рубашке и легла со мной. Господи! У нас были бы теперь правнуки! Мы ведь понятия не имели, как предотвратить беременность. Я сидел бы сейчас у ее постели, уже в другой квартире, теперь отдельной, у Речного Вокзала, и горевал бы, как её уводит от меня Альцгеймер. А может, в этой другой жизни она не упала бы и не сломала тазовую кость. Но мы ничего не умели, мы ни о чём не имели понятия. Ничего не произошло. Она поднялась обратно на чердак. «И ласточка в чертог теней вернулась».
Это о ней: «В осколке спектра заключен, травою окаймленный эллипс, без грусти рос, и цвел колеблясь, бездонный пруд иль долгий сон. О чем умалчивал, леча листву от бликов, как от боли? Припрятав ряби своеволие, о чём? – о счастии молчал. Он замкнутость нагого тела так отражал, как ты хотела, и неповинен в колдовстве. И ты была спокойным чудом, тем сном, тем эллипсом, тем прудом, бездонным счастьем на траве». Этот сонет я позже написал. Нет, она была если и чудом, то совсем не спокойным, и мы не лежали рядом на траве, и я так никогда и не увидел её нагой. И это, в более абстрактном обличии, тоже про неё: «Я жил у границы вселенной, у белой оштукатуренной стенки. Жил с подругой – голландскою печкой, у бесконечной – стены. Были вы влюблены? В плоскость или Евклида? Или красную женщину, нарисованную на снегу? Или простую игру выворачивания пространства – трансформации вместо странствий и забытье вместо гор? Пир и спор? Математику и невозможность? Или дьявольскую таможню, сортирующую фотоны – упакованный мир бездонный, синь за дверью бетонной? Принцип Паули и запрещенное солнце там, за стеной? Поцелуй меня, саламандра, мой маленький протуберанец, мне страшно и слишком светло». Она видела все мои стихи. Она сказала, что ничто не может заменить гор. Я больше никому не посвящал стихов, и вообще со стихами вскоре расстался.
Это всё была моя вина или беда, или я выиграл в лотерее мою жизнь, какой она была, не в Москве, не с ней. Наверно, с этого начался у нас новый ледовый период. Поцелуев больше не было. У неё больше не было времени. Она ишачила на какого-то профессора в вонючей лаборатории. В каникулы она шла в тяжелые походы, и на байдарках по дальним рекам, и на лыжах, и в горы. Нормальный влюбленный парень побежал бы за ней. Много пар поженились после того, как девушка забеременела в походе. Но моё физическое развитие так же отставало, как сексуальное, я совсем не этим интересовался. Мы постепенно перерастали в брата и сестру. Она обо всём мне рассказывала. Она рассказала, как в горном походе на нее навалился парень в соседнем спальном мешке, и она не протестовала, не подала знать. У них было в нашей группе такое содружество полудев, они называли себя «белыми собаками». Это было тайное содружество, но она знала, что может мне всё доверить. К выпуску, может быть, не больше половины наших девочек «почернели».
Она рассказала мне, что влюблена в парня старше курсом, который стал потом известным композитором. Он никогда об этом не узнал. Позже, уже после выпуска, я один знал, что она тайно встречается со своим будущим мужем. Это он, на пять лет ее младше, сидит сейчас у её постели, это у него украл её Альцгеймер. Они работали вместе, компания расходилась в разные стороны, а потом они двое сходилась опять, прежде чем поняли, что не от кого прятаться. Он был её единственный мужчина. Они так и публиковались вместе, потом даже втроем с сыном. Она родила уже под сорок, после нескольких выкидышей, я о ней всё знал.
Она окончила институт с красным дипломом, осталась в аспирантуре на кафедре физической химии, и работала там до пенсии. А мне диплома с отличием не дали из-за тройки по химической технологии, которую влепил мне дурак преподаватель из-за того, что я не знал, каков объем какого-то реактора, а может быть, из-за того, что был настолько нахален, что сказал, что этого и не нужно знать. И в аспирантуру меня не взяли, может быть, даже не потому что нет красного диплома и еврей, а потому что М.Д., которая на физхимии всем заправляла, по-лесбийски ревновала К. ко мне. Мы с К. обсуждали между собой эту гипотезу. Сыркин и М.Д., когда были рядом, составляли гротескную пару, он маленький и суховатый, она высокая и расплывшаяся. Но она была знающа и интеллигентна. К. привела меня много позже к ней в гости, и она признала, что была ко мне несправедлива. Но я должен её за это поблагодарить. Хорошо, что я не застрял, как К., в квантовой химии, занудной и тупиковой области. Но у меня всё равно не хватило бы на это терпения. Я занимался более интересными и разнообразными делами. Даже слишком разнообразными, оттого и не достиг высот. М.Д. умерла жутким раскаленным летом 72-го, когда Москва была затянута дымом горящих торфяных болот.
Потом у нас с К. был перерыв, я уехал, но я часто наезжал в Москву в 90-х. Я подарил ей ювелирную безделушку работы племянницы моей жены. Она подарила мне волшебную «Розу Мира» Даниила Андреева. Мы ходили вместе в театр. Посмотрите на фото 95-го года, нам уже скоро по шестьдесят. Мы у кого-то в гостях. Я показал ей на большую птицу рядом: это наш ребенок. Какой еще мог бы быть ребенок у неё, ласточки, и меня, перелетной птицы? Еще через десять лет она мне сказала: «У меня никогда не будет внуков». Я спросил: «Почему, что он у тебя – гей?» – «Нет». Я так и не понял причины. Ему было еще только 35, но внуков нет и сейчас. У этой птицы рядом с нами не будет потомства. Когда речь зашла о муже, она сказала: «Отношения у нас, как понимаешь, сейчас очень спокойные.» Как-то я ночевал у неё у Речного Вокзала. Муж был в другой их квартире, в Черноголовке. Конечно, мы спали в разных комнатах, у нас тоже были спокойные отношения. Мы снова поехали на её дачу в Абрамцево. Ее отец уже умер, а молчаливая мать, которая всегда на моей памяти только сидела и читала какую-нибудь книгу, я никогда не слышал от неё ни слова, умерла уже давно. Гулять по лесу было опасно, там близко был какой-то нацистский лагерь. Мы пошли в другую сторону. Мы поцеловались у памятника Сергию Радонежскому, и я заплакал.
Пока еще толком не было интернета, она посылала мне открытки, а одно письмо, посланное, до тех встреч, в 94-м с конференции в Германии (в те годы Сорос финансировал нищих россиян), было особым, и она уже не может ни разрешить, ни запретить мне привести строки оттуда: «Когда-то после твоего отъезда я мечтала, что мы с тобой встретимся где-нибудь за границей, так как не надеялась, что ты когда-нибудь сможешь приехать в Москву. Мне всегда очень хотелось сказать тебе, как ты мне дорог, как много ты сделал, чтобы я стала такой, какая я есть. Я помню, как ты читал мне стихи, пересказывал Бунина, Набокова, Кафку. Потом, когда я перечитывала всё это, впечатление было не таким ярким. Хоть мы были с тобой очень разными, ты был по-настоящему близким мне человеком, и, наверное, единственным, кому я могла бы доверить почти всё». Всё-таки почти, не совсем всё. И кончалось письмо так: «А может быть, нам лучше не видеться и просто помолчать по телефону, как раньше. Не тоскуй, живи долго и будь счастлив. Твоя К. Ц.» Ц. означает «целую».
Её подруга, которая тоже училась в нашей группе, а теперь тоже преподавала в том же вузе, уже называвшемся Академией, дразнила её, что она дает поблажки какому-то студенту, потому что он похож на меня. Может быть, она меня все-таки любила? Сквозит ли в этом письме любовь? Нет, лишь нежная дружба. Может, и её было бы достаточно, чтобы прожить вместе жизнь. А я? Спрашиваю самого себя, как у Цветаевой Гамлет опускается из «Но я её любил, как сорок тысяч братьев любить не могут!» до «Но я её (недоуменно) любил?» Ведь я так и не понял, что мы с ней были очень разными, столь же разными, как мой сонет и её письмо.