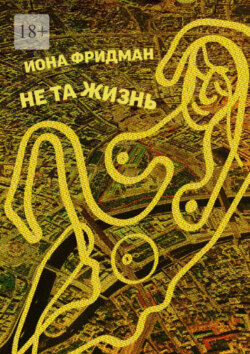Читать книгу Не та жизнь - Иона Фридман - Страница 5
НЕ ТА ЖИЗНЬ
3. Война
ОглавлениеМое первое воспоминание: мне четыре, я сижу и читаю детскую книгу. Я не знаю, сам ли я научился читать или мне помогли. Наверно, это было перед самой войной. У меня есть няня (мама училась в Инъязе, но я этого, конечно, не знал). У меня много игрушечных машин. А где мы жили? В Москве, конечно, но где именно у мамы не спросил, а теперь уже поздно. Следующее воспоминание: я с мамой в бомбоубежище, значит, уже началась война. Это воспоминание неискренне обыгрывается в «колбасе» как тяга к возвращению в материнскую утробу, которой у меня, разумеется, никогда не было. Набоков утверждает, что помнит себя с до-рождения, но он ведь гений, и к тому же сюрреалист. Между началом войны и нашим отъездом, эвакуацией, прошло всего две неделя. Когда я сочинял «колбасу», я спросил маму: неужели Москву уже бомбили? Но мама объяснила, что это была учебная тревога. Но почему нас эвакуировали так быстро, 5-го июля? Видать, Сталин предвидел, что немцы подойдут к Москве. Блицкриг мог завершиться 16-го октября, когда была полная паника и неразбериха, но до немцев это как-то не дошло. Всё-таки войну вел не помешанный Гитлер, а разумные немецкие генералы, и им не могло прийти в голову, что такое может произойти. И Москва могла снова пасть в декабре, но её спасли японцы: они по дурости послали камикадзе в Pirl Harbor (кто же мог тягаться с Америкой?), вместо того чтобы спокойно вторгнуться в Советское Приморье, неужто они так уважали пакт о нейтралитете? Переброшенные оттуда свежие войска спасли Москву, да и СССР. Иначе бы вы этих строк не читали.
Несколько лет назад мне позвонила какая-то женщина и спросила, не был ли я в эвакуации. Я ответил: да, но у меня нет доказательств. Она: нам доказательства не нужны. Видно, им уже не хватало «ницоле́й шоа́», выживших в холокосте, возникли трудности с реализацией бюджета, и эвакуированные тоже были включены. Я не отнесся к этому серьезно, но через некоторое время получаю емайл: почему я не передаю им анкету с данными о моей больничной кассе и номером счета в банке? Я чувствую, что это несправедливо, я не так беден, чтобы быть не в состоянии платить за лекарства, но всё же не отказываюсь от благодеяний, и даже хвастаюсь: я «ницо́ль шоа»! В школе со мной сидел за одной партой еврейский мальчик, действительно выживший в холокосте: он был один, пятилетний, в оккупированной Белоруссии. Он даже заразил меня заиканием, от которого я с трудом отделался.
С эвакуации и начинается моя непрерывная память. Нас везли в грузовых вагонах, по три семьи по ширине вагона, по каждую сторону раздвигающихся дверей, закрытых, когда поезд был в движении. С каждой стороны было маленькое окошечко. Это было первое разочарование в моей жизни: мы были посредине, у меня не было доступа к этим окошкам. Нас привезли в город Пермь, тогда звавшийся Молотов, в честь одного из «тонкошеих вождей». Именно он, наверно, вдохновил Мандельштама на этот образ (в стихотворении о Кремлевском горце с тараканьими усищами, которое стоило ему жизни), он действительно выглядел тонкошеим на портретах. Черчилль говорил о нем: «Я не видел человека, в котором более полно была бы представлена современная концепция робота». При Сталине непредусмотрительно называли города и улицы в честь живых людей, так что, когда тонкошеий был еще жив, но отправлен Хрущевым в опалу, город снова стал Пермью. Так вышло, что я часто бывал в этом городе в 10-х годах, читал лекции в академическом городке за Камой, там, куда мы переправлялись на пароме по грибы. Я помнил двухэтажный дом, где мы жили в центре города на улице Ленина (в Перми улицам до сих пор не вернули старые имена, как в Москве). Но я не нашел этого дома, возможно, его снесли.
Я расту. Слева молодая мама
Мы жили все в одной комнате: я, родители, дед, и бабка. Я недаром ставлю себя первым: я был главной персоной. Все работали, даже бабушка, ведшая хозяйство, строчила что-то на швейной машине как «надомница». Бабушка умела писать только на идиш и вставляла родные слова в русскую речь. Несколько позже она называла меня «йеши́ве бо́хер» (так зовут парней, изучающих талмуд, каких полно в Израиле, на иврите «баху́р йешива́») и «хало́ймес» (мечтатель, или разиня, на иврите «баа́л халомо́т», буквально владыка снов). Не зная слов, я понимал, что она имела в виду. Моя первая жена тоже была тогда в эвакуации с матерью в другом городе, и они голодали: её отец был офицер-артиллерист, так тогда заботились о семьях фронтовиков. А у моих были карточки хорошей категории, и еще для меня обменивали на масло талоны на водку и табак. Я ни в чём не нуждался, не заслужил я нынешних бесплатных лекарств. Сладкое воспоминание – фигурный шоколад, которым, еще ближе к началу войны, пока его не извели, как-то «отоварили» карточки на сахар. Мне не хватало только игрушек, мой автопарк остался в Москве, всего то у меня и было, что лиса и мишка без глаз.
Так случилось, что мамин Инъяз тоже эвакуировали в Пермь, но мама была патриотка, не имея из-за меня возможности уйти на фронт, она пошла работать на военный завод: она кое-что понимала в технике, до замужества и Инъяза кончила холодильный техникум, пока жила у сестры в Ленинграде. Она выглядела тогда, как девочка, и ей на работе давали поблажки. Это помогло, когда я заболел. У меня была тяжелая корь, я и сейчас помню бред, который у меня и потом повторялся при высокой температуре, бред похожий на компьютерные симуляции турбулентного течения, расширяющегося и непрестанно проваливающегося в глубину. Мама от меня не отходила, это значит: не ходила на работу. За такое тогда могли чуть ли не расстрелять, но девочке простили.
Мой дядя выписался из больницы, и мы стали с ним издавать домашнюю «стенгазету». Он стал потом журналистом, поселившись в Минске с женой, психологом на несколько лет его старше, которая, конечно, им заправляла, пока не растворилась в Альцгеймере. Я его любил: мне казалось, что он, пройдя через войну, был таким же мальчиком, как я, пятилетний, и мы играли с ним на равных. Мне даже кажется, что стенгазета была моей, а не его идеей. Как во всех газетах, в этой газете писали о войне. Я выписывал квадратными буквами статьи об успехах зайцев в их битвах с волками, и страница была украшена портретом маршала Зайцева. Кто его нарисовал? дядя? или даже отец? – это было его хобби, а я не умел рисовать, но отцу было не до того, я его в войну редко видел.
Наши тотемы
Хоть материал был патриотическим, возможно, если бы эту газету кто-то не тот увидел, мог бы заподозрить, не был ли этот портрет пародией на другого Великого Маршала? Кто-то ведь знал, чего мы не знали, что Великий Маршал вел себя, как трусливый заяц в первые недели войны. Но в нашей семье заяц был положительным персонажем, даже тотемом. И совершенно независимо, когда ко мне приехала 17-летняя дочь, оказалось, что её кличут Зайцем, так она для меня, да и для её мужа, Заяц и сейчас, когда ей вот-вот стукнет пятьдесят. Еще я рисовал или чертил некий «газогенератор для прогулки зайцев». Газогенераторы были папиной профессией, но сейчас это вызывает ассоциацию с газовыми камерами, о которых, конечно, тогда еще не знали. Другим тотемом был и остается медведь. Я стал называть отца Медведем, хотя в нем, ничего медвежьего нет, кроме имени Миша, а по паспорту совсем непохоже: Моисей, вернувшееся потом к тому, что написано на его могиле: Моше́. Ему медвежье прозвище не нравилось, и я прекратил его так называть, но, совершенно независимо, маленькая сестра тоже в свое время стала его звать Медведем, ей он возразить не мог, и так это и осталось, мы между собой так его и до сих пор зовем. И даже газогенераторы для прогулки зайцев сестра независимо изобрела!
Мы вернулись в Москву летом 43-го. Мой автопарк исчез (жилплощадь не пустовала эти два года), но я изобретал другие игры. Мы жили маленькой семьей в десятиметровой комнате в общежитии, с коммунальными кухней и туалетом в противоположном конце длинного коридора. Оно располагалось рядом с Новодевичьим монастырем, одним из моих любимейших мест Москвы. Я еще подбирал в сквере рядом осколки салютов. Красная Армия наступала, салюты в честь взятия городов были чуть ли не каждый день. Я был пламенным патриотом не только страны, но и Москвы, я сердился, чуть не плакал, когда салют в честь прорыва блокады Ленинграда был только там, не у нас. Я лишь слышал эту канонаду по радио – а радио было «радиоточкой», включенной в штепсель на стене, настоящие радиоприёмники реквизировали в самом начале войны.
Как-то, идя со мной в булочную за хлебом, мама оставила меня снаружи, и, чтобы я не заскучал пока она стоит в очереди, посоветовала мне считать трамвайчики. У нас было старое лото с разношерстными фишками, и я подметил интересное сходство между номерами на основаниях бочкообразных фишек и на дисках, увенчивающих трамвайные вагоны. Я развил это сходство в республику Лотению, о которой я так никому и не рассказал. Читатель (если ты где-то есть), ты первый, кто о ней слышит. Хоть и республика, у неё был король, который определялся сложным образом по миловидности фишек и частоте трамваев. Уже школьником, когда я мог самостоятельно ездить по городу, я упорядочил престолонаследие, включив в него трамваи из дальних концов Москвы и исключив фишки. Трамвайные пути постепенно зарывали, республика увядала. Однако у меня и посейчас осталась привычка считать предметы, например балерин в кордебалете на экране телевизора. Более сложным упражнением в арифметике был «настольный футбол», лист картона, где надо было, подобно нардам, бросать игральную кость и передвигать футболистов в соответствии с выпавшими очками; были там и особые номера, соответствующие штрафным ударам и т. д. Это породило интерес, уже когда война кончилась, к таблице настоящего футбольного чемпионата. Я даже как-то затащил маму (бедняжка, как она могла мне отказать?) на футбольный матч.
В сущности, меня никто не воспитывал: папа был слишком занят, а мама слишком молода, и к тому же она вернулась в Инъяз. И я был один, не общался, не играл ни с кем из сверстников. Возможно, обеспокоенные этим, родители отправили меня летом перед школой (был уже 44-й год) в лагерь. Я ни с кем не общался и там, и этот лагерь возненавидел. В «мертвый час» я тайно читал книгу под простыней, испортил тем глаза, стал близорук, очкаст, пока зрение не улучшилось после операции катаракты. Что я помню из общения со сверстниками, так это как один мальчик сказал, что это из-за евреев война. Я-то и не знал, что я еврей, но он, по-видимому, знал. Лагерь был городской, и, я думаю, меня оттуда забрали до срока.