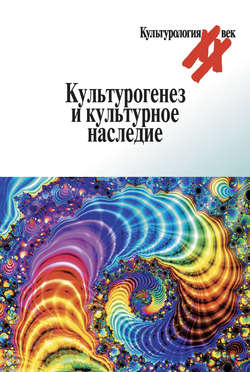Читать книгу Культурогенез и культурное наследие - Коллектив авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Э. С. Маркарян и В. М. Массон: у истоков возрождения отечественных культурогенетических исследований
А. В. Бондарев (Санкт-Петербург). Вклад Э. С. Маркаряна в становление отечественных культурогенетических исследований
Культурогония и культурогенез: к проблеме зарождения культуры
ОглавлениеВ этой связи Э. С. Маркарян специально подчеркивал методологическую роль системно-генетического анализа проблем генезиса культуры. Имея самостоятельную ценность, подобный анализ позволяет понять суть данного явления и создает необходимые теоретические предпосылки для исследования его развитых состояний, а также проведения прогностических исследований. «Чтобы стать действительно эффективным, – указывает Э. С. Маркарян, – генетический подход к культуре должен быть органически связан с исследованием изучаемого объекта в его развитом состоянии»[46].
В онтологическом плане Э. С. Маркарян рассматривает культурогенез как один из аспектов процесса исторического развития, увязывающий «звенья культуры в некую целостность, представляя ее как реально функционирующую и развивающеюся систему»[47]. Отмечая, что общая проблема генезиса общества обычно рассматривалась до него в двух основных аспектах (антропогенез и социогенез), Маркарян приходит к заключению, что наряду с ними «было бы целесообразно выделить и третий аспект – культурогенез». Эту мысль исследователь пояснял следующим образом: «В этом случае антропогенетический аспект выражал бы проблему формирования человека современного типа, социогенетический – становление социальной организации первобытного общества, культурогенетический же – выработку присущего людям особого способа деятельности в целом. Единство же этих трех аспектов можно было бы выразить понятием “системогенезис” или “системогенез” человеческого общества»[48]. Таким образом, именно Маркарян одновременно с А. П. Окладниковым[49] и независимо от него ввел в отечественный лексикон термин «культурогенез». Параллелизм развертывания мысли здесь наблюдается вплоть до терминологических совпадений. При этом Маркарян, видимо, также интуитивно опирался на разработанную еще в середине 1940-х гг. теорию системогенеза акад. П. К. Анохина[50].
Критикуя предложенный Маркаряном подход, московский философ Ю. И. Семёнов указывал на то, что в данном случае нельзя ограничиться объявлением культуры основой, программой поведения человека. Необходимо ответить на вопрос, что лежит в основе этой программы, почему в данном обществе существуют именно такие, а не иные нормы, культурные ценности, почему культура этого общества именно так, а не иначе ориентирует, побуждает действовать человека. Иными словами, нужно найти объективную основу той части культуры, той части общественного сознания, которая определяет человеческое поведение, выступает как его программа. Как заключает Ю. И. Семёнов, подобного рода понимание сущности человека обусловливает определенный подход к проблеме перехода от биологического к более высокому качеству. Следовательно, эта проблема выступает как вопрос о становлении не общества, а культуры. В результате, по мнению Семёнова, проблема социогенеза подменяется проблемой культурогенеза[51]. Хотя имен в данном случае Семёновым и не приводится, но в этом анонимном выпаде нельзя не узнать завуалированной критики взглядов Э. С. Маркаряна, нашедших свое отражение в его монографии «О генезисе человеческой деятельности и культуры». Придерживаясь марксистской теории исторического материализма, Ю. И. Семёнов заключает, что предпосылками культурогенеза на рубеже перехода от хабилисов (поздних предлюдей) к неоантропам и Ноmo sapiens (сформировавшимся людям), т. е. в ходе второго скачка антропосоциогенеза, явились понятийное мышление, язык и воля. По его мнению, это, во-первых, отделило производственную деятельность от условно-рефлекторной, социальное начало в деятельности – от биологического; а во-вторых, это положило начало духовному творчеству, духовной культуре, пусть даже в самых примитивных ее формах[52]. Иначе говоря, при таком толковании, «культурогенез» – это первоначальный период феноменального зарождения культуры в эпоху первобытности, являвшийся лишь производным следствием социального развития этого времени. Следовательно, Семёнов явно принижает роль культуры в становлении человека, продолжая настаивать на двуедином характере процесса антропосоциогенеза и отрицая весьма плодотворную идею Маркаряна об антропосоциокультурном триединстве «системогенеза» человеческого общества[53]. Маркарян категорически возражает против подобного рассмотрения культуры, при котором она выступает лишь как некий производный эпифеномен общества. Такую позицию, свойственную не только Семёнову, но также многим советским и современным обществоведам, ученый считает в корне ошибочной и принципиально неверной. Согласно его глубокому убеждению, в процессе генезиса общественной жизни людей именно зарождение, развитие культуры и создало само общество. В этом смысле только признание одновременности и теснейшей взаимообусловленности в протекании процессов антропогенеза, социогенеза и культурогенеза дает необходимые и достаточные основания для адекватного понимания проблемы происхождения культуры, человеческого общества и самого человека.
В своих исследованиях Маркарян последовательно придерживался и продолжает придерживаться монофилетической трактовки генезиса культуры (культурогонии). Базируясь на трудовой гипотезе Ф. Энгельса, он пишет, что изучение проблемы соотнесения материально-производственной и духовно-производственной типов деятельности однозначно доказывает, что генетически исходным элементом общества выступила сфера материального производства. «Она явилась именно тем исходным, определяющим звеном, которое повлекло за собой всю структурную цепь социокультурного типа организации»[54]. На этой основе исследователь приходит к выводу, что все остальные стороны его производительной, созидательной деятельности «генетически потенциально были заданы в материально-производительной деятельности, выразившей в своем становлении качественно новый тип коллективного отношения к среде»[55]. Такова, по его словам, «исходная посылка, лежащая в основе историко-материалистического монизма, утверждающая генетическую первичность материально-производственной деятельности, как условия возникновения качественно нового внебиологического по способу своего осуществления, социокультурного русла развития жизни, несущего в себе необходимые стимулы для постепенной выработки всех наиболее существенных специфических признаков человеческой жизнедеятельности»[56].
Между тем в современных исследованиях по проблеме зарождения культуры все отчетливее звучит вывод о том, что, видимо, не следует все же сводить культурогонию к единому линейному процессу. В свете последних археологических и палеоантропологических данных значительно более обоснованной является полифилетическая гипотеза генезиса культуры[57]. Сейчас можно утверждать, что фактически имели место тысячи культурогоний каждой первобытной общины. Новейшие исследования вполне подтверждают гипотезу акад. Н. Я. Марра о том, что процесс культурогонии не имел какого-то явно выраженного начала или мифической прародины[58]. Происходил чрезвычайно сложный процесс трансформации форм жизнедеятельности приматов в формы жизнедеятельности австралопитеков, потом питекантропов, потом людей[59]. В культурогонии инстинкты постепенно вытесняются осмысленными формами поведения и способами символизации[60]. По всей вероятности, культурогония складывалась из целого множества диалектических скачков в различных сферах жизнедеятельности первобытных людей.
Зарождение феномена культуры на нашей планете – это совершенно особая по своей сложности, комплексности и значению проблема. В этом смысле следует согласиться с Э. С. Маркаряном, что принципы решения этой проблемы должны нести ключ к пониманию тех стимулов и механизмов эволюционной самоорганизации жизни, благодаря которым на планете и стало возможным радикальное преодоление мощных барьеров, задаваемых базовым, биологическим способом естественной (т. е. регулируемой объективными законами мироздания) регуляции жизненных процессов и утверждение на Земле качественно нового способа такой регуляции – культуры.
Таким образом, культурогония – это феноменальное зарождение культуры, а культурогенез – процесс перманентного порождения и диалектического самовозобновления культуры внутри различных локальных общностей[61]. Некорректность трактовки культурогенеза как «зарождения культуры в эпоху первобытности» уже была самым убедительным образом показана в новейшей литературе[62]. Лишь инерционность мышления и терминологии ряда исследователей может служить оправданием для употребления данного термина в столь редукционистском значении. На данный момент после капитальных работ Э. С. Маркаряна, В. М. Массона, В. С. Бочкарева и А. Я. Флиера можно уже с уверенность утверждать, что подобный ограниченный взгляд на культурогенез представляет собой не более чем историографический архаизм.
Что же касается древнейших этапов дальнейшего становления культуры, то их было бы тогда возможно определить как процессы палеокультурогенеза, поскольку для них был присущ целый ряд характерных особенностей, которые весьма их отличают от последующего культурного развития (дипластия, «прелогичность» и «мифологичность» мышления, партиципация, трудмагизм, полигенизм и синкретичность различных форм деятельности, видов изобразительного искусства и т. д.). Поэтому палеокультурогенез плавно вытекает из культурогонии – это уже не «рождение», а постепенное созревание культуры в процессе последующего интеллектуального и духовного роста человека[63].
В новейших своих работах Э. С. Маркарян приходит к убеждению, что проблема генезиса общественной жизни людей, присущего им общего способа деятельности, а также проблема выживания и развития современного человечества (а вместе с ним и огромного множества других форм жизни на планете) оказываются органически сопряжены друг с другом[64]. Поэтому в работах Маркаряна красной нитью проходит мысль о том, что изучение проблем порождения, самообновления и самосохранения культуры имеют колоссальное научное значение для разработки стратегии устойчивого развития человечества не только в настоящем, но и будущем. Это связано в том числе и с исключительной актуальностью изучения проблем генезиса кризисных ситуаций на самых разных уровнях социокультурной действительности, а также разработки методов и технологий их преодоления. Но здесь следует подчеркнуть, что для всестороннего и комплексного исследования вопросов культурогенеза требуется тесное объединение усилий представителей множества дисциплин общественных и естественных наук.
На основе проведенных многолетних исследований Э. С. Маркаряном был сделан в последние годы крайне важный вывод о том, что культурологическая теория должна базироваться на осмыслении процессов генезиса культуры (культурогенеза), а также установления законов и механизмов ее воспроизводства и изменений именно как особого системного образования, призванного обеспечить существование обществ в процессах их взаимодействия с природной и социокультурной средой[65].
46
Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции // Вопросы этнографии. 1981. № 2. С. 80.
47
См.: Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука: логико-методологический анализ. М.: Мысль, 1983. С. 59, 135, 151–175.
48
Там же. С. 85–86.
49
Окладников А. П. Этногенез и культурогенез // Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока: тезисы докладов Всесоюзной конференции, 1–21 декабря 1973 г. Новосибирск, 1973. С. -11.
50
Анохин П. К.: 1) Проблема центра и периферии в современной физиологии нервной деятельности // Проблема центра и периферии в нервной деятельности. Горький, 1935. С. 9–70; 2) Системогенез как общая закономерность эволюционного процесса // Бюллетень экспериментальной биологии. 1948. Т. 26, вып. 2, № 8. С. 81–99; 3) Методологическое значение кибернетических закономерностей // Материалистическая диалектика и методы естественных наук. М.: Наука, 1968. С. 547–587; Anokhin P. K. Systemogenesis as a general regulator of brain development // The Developing Brain / eds. W. A. Himwich, H. E. Himwich. Amsterdam: Elsevier, 1964. P. 54–86.
51
Семёнов Ю. И. Теоретические проблемы становления человеческого общества // История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М.: Наука, 1983. С. 230.
52
См. подробнее: Семёнов Ю. И.: 1) Возникновение человеческого общества. Красноярск: Изд-во КГП, 1962; 2) Как возникло человечество. М.: Наука, 1966; 3) Как возникло человечество. 2-е изд., с новым предисл. и прил. М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2002.
53
Впоследствии эта идея Э. С. Маркаряна была заимствована М. С. Каганом (1921–2006), который разработал и обосновал собственную концепцию антропосоциокультурогенеза. См.: Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. Кн. 1. СПб.: Петрополи, 2003. С. 83–112.
54
Маркарян Э. С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. С. 96.
55
Маркарян Э. С. Там же.
56
Маркарян Э. С. Там же.
57
См. работы Л. Б. Вишняцкого: Вишняцкий Л. Б.: 1) Полицентристский сценарий перехода к верхнему палеолиту // Первобытная археология. Человек и искусство. Новосибирск, 2002. С. 11–17; 2) Моноцентристский и полицентристский сценарии перехода к верхнему палеолиту // Кавказ и первоначальное заселение человеком Старого Света. СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. С. 213–219; 3) О направленности культурной динамики в среднем палеолите // Stratum plus. 2009. № 1. С. 11–32; 4) Происхождение языка: современное состояние проблемы (взгляд археолога) // Вопросы языкознания. 2002. № 2. С. 48–63; 5) О движущих силах развития культуры в преистории // Восток (Oriens). 2002. № 2. С. 19–39; 6) Введение в преисторию. Проблемы антропогенеза и становления культуры. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. Кишинев: Высшая Антропологическая Школа, 2005; 7) Информационный взрыв и изобразительная деятельность // Археология, этнография и антропология Евразии. 2005. № 1. С. 51–54; 8) О возможных случаях культурной преемственности между Homo neanderthalensis и Homo sapiens // Записки ИИМК РАН. 2007. № 2. С. 166–181; 9) Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и причины верхнепалеолитической революции. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008; 10) How many core areas? The «Upper Paleolithic Revolution» in an East Eurasian perspective // Journal of the Israel Prehistoric Society. 2005. Vol. 35. P. 143–158.
58
См.: Первобытное искусство: проблема происхождения / Н. С. Бледнова, Л. Б. Вишняцкий, Е. С. Гольдшмидт, Т. Н. Дмитриева, Я. А. Шер; под общ. ред. Я. А. Шера. Кемерово, 1998; Шер Я. А., Вишняцкий Л. Б., Бледнова Н. С. Происхождение знакового поведения. М.: Научный мир, 2004; Флиер А. Я., Полетаева М. А. Происхождение и развитие культуры. Учебное пособие. М.: МГУКИ, 2008.
59
Флиер А. Я. Философский аспект происхождения культуры // Человек-Философия-Гуманизм: тезисы докладов и выступлений Первого Российского философского конгресса (4–7 июня 1997 г.). В 7 т. Т. 6. Философия культуры. СПб., 1997. С. 189–192.
60
Вишняцкий Л. Б. Когда и зачем людям понадобились вещественные символы длительного хранения // «Homo Eurasicus» у врат искусства: сб. науч. трудов / отв. ред. Е. А. Окладникова. СПб.: Астерион, 2009. С. 140–147.
61
См. подробнее: Бондарев А. В.: 1) Культурогония и культурогенез: к проблеме содержательного разграничения // «Ноmо Eurasicus» у врат искусства: сб. науч. тр. / отв. ред. Е. А. Окладникова. СПб.: Астерион, 2009. С. 227–245; 2) О редукционистских подходах к постановке проблемы культурогенеза // Историческая культурология как научная и образовательная дисциплина (Памяти М. С. Кагана): материалы коллоквиума (Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 18 мая 2012 г.). СПб.: Астерион, 2013. С. 125–134.
62
Бочкарев В. С.: 1) Культурогенез и развитие металлопроизводства в эпоху поздней бронзы (по материалам южной половины Восточной Европы) // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н. э.): межвузовский сборник научных трудов. Самара: Изд-во СамГПУ, 1995. С. 114–120; 2) Карпато-Дунайский и Волго-Уральский очаги культурогенеза эпохи бронзы // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита-бронзы Средней и Восточной Европы: материалы конференции. Саратов; СПб.: ИИМК, 1995. С. 18–29; Массон В. М.: 1) Первые цивилизации и всемирная история. 2-е изд., доп. Кишенев: «Высшая Антропологическая Школа», 2005; 2) Культурогенез Древней Центральной Азии. СПб.: Изд-во филол. фак. СПбГУ, 2006; Иконникова С. Н. Контуры исторической культурологии // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию проф. М. С. Кагана. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 18 мая 2001 г.). Сер. Symposium. СПб.: Санкт-Петербургское филос. о-во, 2001. Вып. 12; Теория культуры: учеб. пособ. / под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. СПб.: Питер, 2008. С. 210–219; Флиер А. Я., Полетаева М. А. Происхождение и развитие культуры: учеб. пособ. М.: МГУКИ, 2008.
63
Алексеев В. П. Становление человечества. М.: Политиздат, 1984; Вишняцкий Л. Б.: 1) О движущих силах развития культуры в преистории // Восток (Oriens). 2002. № 2. С. 19–39; 2) Человек в лабиринте эволюции. М.: Весь Мир, 2004; Кабо В. Р.: 1) История первобытного общества и этнография (к проблеме реконструкции прошлого по данным этнографии) // Охотники, собиратели и рыболовы. Л.: Наука, 1972. С. 53–67; 2) Синкретизм первобытного искусства (по материалам австралийского изобразительного искусства) // Ранние формы искусства. М.: Искусство, 1972. С. 275–299; 3) Теоретические проблемы реконструкции первобытности // Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. Сб. статей АН СССР / Институт этнографии им. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 1979. С. 60–107; Столяр А. Д.: 1) Проблема происхождения палеолитического изобразительного искусства как предметно-генетическая задача (к вопросу о методике историко-археологического исследования) // Древний Восток и мировая культура. М.: Наука, 1981. С. 5–11; 2) Мировоззренческий феномен этносоциокультурогенеза первобытного севера Европейской России // Первобытная и средневековая история и культура Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции: Международная научно-практическая конференция. Сборник научных cтатей и докладов / отв. ред. – сост. А. Я. Мартынов. Соловки (Архангельская обл.): Соловецкий музей-заповедник, 2006 (Соломбал. тип.). С. 24–38; Филиппов А. К. Хаос и гармония в искусстве палеолита. СПб.: ЛООО «Сохранение природного и культурного наследия», 2004.
64
Маркарян Э. С. Наука о культуре и императивы эпохи. М.: [б. и.], 2000.
65
Маркарян Э. С. На путях постижения тайн социокультурного способа эволюционной самоорганизации жизни. Автобиографический очерк (рукопись). Публикуется с согласия автора.