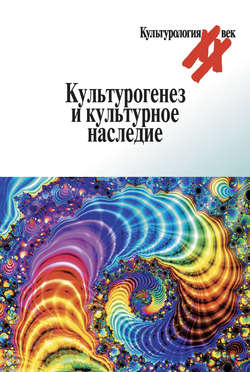Читать книгу Культурогенез и культурное наследие - Коллектив авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Э. С. Маркарян и В. М. Массон: у истоков возрождения отечественных культурогенетических исследований
А. В. Бондарев (Санкт-Петербург). Вклад Э. С. Маркаряна в становление отечественных культурогенетических исследований
Генезис культурогенетической концепции Э. С. Маркаряна
ОглавлениеВ числе первых, кто в отечественной науке подошел к осознанию исключительной важности и теоретико-методологической плодотворности генетического изучения культуры, был Эдуард Саркисович Маркарян. Научное творчество Маркаряна весьма многогранно и обширно, оно еще ждет своего всестороннего исследования. Здесь ставится значительно более узкая по своему масштабу задача выявления генезиса и основных этапов в развитии культурогенетических изысканий этого неординарного ученого.
Научное становление Маркаряна началось со времени поступления в 1953 г. в аспирантуру на кафедру истории зарубежной философии МГУ. Это были благодатные годы «оттепели», когда оказались возможными творческое развитие и относительно свободное освоение достижений зарубежной и отечественной науки. Напряженная и кропотливая работа над темой кандидатской диссертации «Исторический очерк и критический анализ концепции общественного круговорота»[32], знакомство в подлиннике с трудами Дж. Вико, Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Дж. Тойнби и других видных представителей культурно-исторической школы заложили прочный теоретико-методологический фундамент и сформировали устойчивый интерес молодого ученого к различным теориям развития культуры (органицизму, диффузионизму, цивилизационизму, эволюционизму и т. д.). Заметное влияние на формирование его концептуальных представлений оказали идеи американских культурологов и антропологов, придерживавшихся неоэволюционизма и мультикультурализма (Л. Э. Уайт, Дж. Стюард, М. Харрис, М. Салинс, Э. Р. Сервис и др.), причем со многими из них он был лично знаком и состоял в длительной переписке. В отдельных работах Маркаряна также ощущается идейная близость культурфилософским поискам и футурологическим прогнозам Ст. Лема, работы которого он неоднократно цитировал в своих собственных произведениях. Вместе с тем на формирование научных взглядов и мировоззренческих принципов Э. С. Маркаряна решающим образом повлияло (и в тех условиях не могло не повлиять!) господствовавшее в СССР материалистическое учение – диалектический и исторический материализм.
С начала 1960-х гг., заинтересовавшись интенсивно развивавшимися в те годы в естественных науках кибернетикой и системными исследованиями, Маркарян одним из первых в нашей стране поставил беспрецедентную задачу сопряжения системного подхода с исследованием эволюционных социокультурных процессов, прилагая его основополагающие принципы к изучению общественной жизни людей, человеческой деятельности и самому феномену культуры. В этот период у него устанавливаются контакты с группой известных ученых, специализировавшихся в области системного анализа (Д. М. Гвишиани, В. Н. Садовский, А. А. Малиновский, И. В. Блауберг, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и др.). Хотя справедливости ради следует отметить, что, несмотря на дружеские связи Маркаряна с названными исследователями (особенно с Д. М. Гвишиани и В. Н. Садовским), эти контакты все же не переросли в результативное научное сотрудничество – слишком разнились области их исследований. Поэтому разработка принципов системного изучения культуры и общества является целиком его собственной заслугой. В это же время он приступил к подготовке своей докторской диссертации «Методологические проблемы системного исследования общественной жизни», которая была защищена в 1967 г. в Институте философии АН СССР. Идеи этой диссертации во многом задали траекторию последующей исследовательской деятельности Э. С. Маркаряна в течение последующих примерно двух десятилетий.
С конца 1960 – начала 1970-х гг. Э. С. Маркарян приступил к разработке культурологической теории. Для рассматриваемой тематики исходной основой послужили три взаимосвязанных направления его исследований:
• концепция общества как универсальной адаптивно-адаптирующей системы;
• концепция деятельности людей как специфической разновидности информационно направляемой активности живых систем;
• концепция культуры как универсального надбиологического способа (технологии) деятельности, аккумулирующего актуальный социальный опыт и выполняющего в обществе негэнтропийную функцию.
Исходным пунктом рассуждений Маркаряна стало признание того факта, что любая система – от простого живого организма до общества – стремится к самосохранению и самовоспроизводству. Если система утрачивает возможность вырабатывать механизмы, препятствующие нарастанию энтропийных процессов, то она распадается. Таким механизмом применительно к обществу выступает культура, в которой и проявляется социальная природа человека. На этой основе Э. С. Маркаряном было предложено и обосновано понимание культуры как специфически характерного для людей способа деятельности и объективированного в различных продуктах результата этой деятельности[33]. Следовательно, с этой точки зрения культура охватывает собой всю систему внебиологически выработанных средств и механизмов, благодаря которым мотивируется, стимулируется, направляется, координируется, программируется, исполняется и обеспечивается человеческая деятельность, а ее личностные и коллективные субъекты воспроизводятся и изменяются[34]. Вне деятельности, подчеркивает Э. С. Маркарян, культура существовать не может, как не может существовать человеческая деятельность вне ее историко-культурного контекста.
Концепция культуры как универсальной технологии (способа) человеческой активности была разработана Э. С. Маркаряном в результате синтеза нескольких идей и их концептуальной переработки[35]. Одна из них была выражена в характерной для американской культурной антропологии традиции широкого понимания культуры, которая обычно трактовалась там как важнейшее явление общественной жизни людей и с которой полностью солидаризировался Э. С. Маркарян. Однако ни одна из используемых в зарубежной науке трактовок природы культуры не казалась начинающему исследователю вполне убедительной. И это во многом было обусловлено именно тем, что в антропологии США, как считал Маркарян, попросту отсутствовали категории, которые были способны задать общее процессуальное поле для приложения понятия культуры.
В то же время, по его мнению, в советском обществознании эти категории были достаточно разработаны, будучи выражены в понятиях человеческой деятельности (жизнедеятельности) и социальной практики. Как известно, начальные основы теории деятельности (или деятельностного подхода) были заложены еще в 1920–1930-х гг. в рамках культурно-исторической школы в советской психологии (А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев, опиравшихся на труды Л. С. Выготского, работы Н. Н. Ланге, а также учение К. Маркса и Ф. Энгельса, в частности их «трудовую концепцию»)[36]. Основную проблему в данном случае Маркарян видел в том, что без этих четко выраженных категорий адекватное осмысление генеральной функции культуры оказывается невозможным. Вместе с тем он считал, что категория человеческой деятельности в контексте советского обществознания нуждалась в качественно новой системной интерпретации, идущей в унисон с системным переосмыслением понятия культуры. Только в этом случае обсуждаемая категория была бы способна выразить процессуальное поле общественной жизни людей[37]. Примерно в это же время параллельно в довольно близком по духу направлении развертывалась изыскания Г. П. Щедровицкого в области развития деятельностного подхода и создания общей теории деятельности (в 1961–1971 гг.), а затем разработки системомыследеятельностного подхода (с 1971 г.)[38]. Здесь, кстати, следует вспомнить также и о весьма интересных заседаниях Московского методологического кружка при философском факультете МГУ под руководством Г. П. Щедровицкого. Деятельность этого методологического кружка, приходившаяся на 1952–1958 гг., совпала с годами учебы Маркаряна в аспирантуре по кафедре истории зарубежной философии МГУ. Поэтому он имел счастливую возможность принимать участие в этих заседаниях со своими близкими друзьями – М. К. Мамардашвили и В. Н. Садовским; кроме них в этом кружке также состояли Б. А. Грушин, А. А. Зиновьев, О. И. Генисаретский, А. Г. Раппапорт и др. Однако воздействие разработок Г. П. Щедровицкого в области общей теории деятельности на формирование идей Маркаряна о деятельностной подоснове культуры, а также их сравнительный анализ нуждаются все же в отдельном дополнительном изучении.
Важнейшим итогом собственных самостоятельных системных исследований Э. С. Маркаряна как раз и явилась категория культуры, понятой в качестве универсальной технологии (способа) человеческой деятельности, призванная выполнять конечные адаптивные функции. Идея культуры как адаптивного измерения человека, как уже было отмечено выше, зародилась в антропологии США[39]. Однако заложенный в данной идее потенциал, по мнению Маркаряна, не был развит там в полной мере. Основываясь на этой идее, исследователю удалось разработать концепцию культуры как адаптивно-адаптирующего механизма общественного организма.
Одно из важнейших положений докторской диссертации Маркаряна состояло в утверждении, что степень плодотворности научной теории об определенном классе явлений находится в прямой зависимости от разработки принципов генезиса данных явлений. Отталкиваясь от данного положения, Э. С. Маркарян закономерным образом поставил перед собой цель проведения специального исследования, посвященного осмыслению происхождения феноменов общественной жизни людей, человеческой деятельности и культуры. Таким образом, продолжая системные исследования общественной жизни людей, исследователь пришел к выводу, что лишь системный поиск генезиса этого специфического типа жизни позволит понять его внутреннюю природу. Следовательно, размышления Маркаряна двигались от освоения достижений органической философии культуры (Дж. Вико, И. Г. Гердер, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, О. Шпенглер) к постижению системной природы социокультурных процессов, затем от разработки узловых принципов системного анализа общества и культуры к осознанию скрытого в генетическом изучении культуры мощного теоретико-методологического потенциала. Сама постановка вопроса о деятельностной природе культуры задавала направление мысли в сторону выявления генетических проблем ее перманентного порождения и диалектического самовозобновления[40]. При этом дополнительными импульсами для актуализации этой идеи в научных поисках Маркаряна вполне могли выступить и освоение достижений американской культурантропологической мысли, и дискуссии конца 1960 – начала 1970-х гг. (в том числе по проблемам этногенеза на страницах журнала «Природа»), и весьма возможное знакомство с опубликованной в 1969 г. в «Вопросах философии» статьей Ст. Лема «Модель культуры», представляющей собой фрагмент одной из глав его книги «Filozofia przypadku», в которой обосновывается стохастическая концепция культурогенеза[41]. Сыграла здесь, видимо, свою роль и имевшаяся терминологическая матрица – «-генез»: если изучаем антропогенез, социогенез и этногенез, то в этой связи следует рассматривать также и культурогенез.
32
В 1958 г. диссертация была блестяще защищена на философском факультете МГУ. В существенно трансформированном виде работа была опубликована в виде монографии под названием «О концепции локальных цивилизаций» (Ереван, 1962).
33
Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1969. С. 11.
34
Маркарян Э. С. Наука о культуре и императивы эпохи. М.: [б. и.], 2000. С. 30, 32–35.
35
См.: Маркарян Э. С. Гуманизм XXI столетия: Идеология самосохранения человечества. Ереван: Изд-во РАУ, 2008. С. 145.
36
Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. М., 1930; Рубинштейн С. Л.: 1) Принципы творческой самодеятельности: (К философским основам современной педагогики) // Ученые записки высшей школы г. Одессы. 1922. Т. 2; 2) Основы психологии. М., 1935; 3) Основы общей психологии. М., 1940; 4) Бытие и сознание. М.: Изд-во АН СССР, 1957; 5) О мышлении и путях его исследования. М.: Изд-во АН СССР, 1958; 6) Принципы и пути развития психологии. М.: Изд-во АН СССР, 1959; 7) Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973; Леонтьев А. Н. Человек и культура. М., 1961; Лурия А. Р. Психология как историческая наука: к вопросу об исторической природе психологических процессов // История и психология / под ред. Б. Ф. Поршнева. М.: Наука, 1971. С. 36–62; Леонтьев А. Н.: 1) Культура, поведение и мозг человека // Вопросы философии. 1968. № 7. С. 50–56; 2) Деятельность и сознание // Там же. 1972. № 12. С. 129–140; 3) Проблема деятельности в психологии // Там же. № 9. С. 95–108; 4) Деятельность и личность // Там же. 1974. № 4. С. 897; № 5. С. 678; 5) Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.
37
Маркарян Э. С. Гуманизм XXI столетия… С. 145–146.
38
Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования. М., 1964; Проблемы исследования систем и структур. Материалы к конференции. М., 1965. (На правах рукописи.); Щедровицкий Г. П. и др. Педагогика и логика. М., 1968. (На правах рукописи.); Щедровицкий Г. П. Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии. Обнинск, 1974.
39
Kroeber A. History, Evolution and Culture. Evolution after Darvin. Chicago, 1968. Vol. 2; White L. A. The Science of Culture: A Study of Man and Civilization. N. Y.: Farrar, Straus and Cudahy, 1949.
40
Примерно таким же было и развертывание мысли В. фон Гумбольдта, который, опираясь на органическую концепцию культуры И. Г. Гердера, первым выявил энергийно-деятельностную природу языка и начал изучать глоттогенез как процесс порождения и самовозобновления языковых систем. Развивая органицистские идеи И. Г. Гердера и И. В. Гёте, Гумбольдт понимал язык сам как вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определены, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными. По его убеждению, определяющим моментом при изучении любых культурных явлений выступает принцип их генетической связи. По сути, именно Гумбольдт утвердил приоритет динамического, процессуально-генетического подхода над структурно-статическим в изучении проявлений человеческого духа и, в частности, языка. Именно поэтому, согласно Гумбольдту, «истинное определение языка может быть только генетическим» (а, как известно, «язык – душа культуры»). Эта же гомологичность в развертывании мыслей имела место и у Н. Я. Марра, когда он сделал вслед за Гумбольдтом следующий шаг, открыв проблему генетики культуры.
41
Лем Ст. Модель культуры // Вопросы философии. 1969. № 8. С. 49–62.